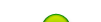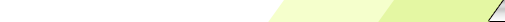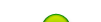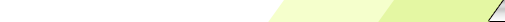О РЕДКИХ УДАЧАХ СОЛДАТСКОЙ СУДЬБЫ
Валерий ОГНЕВ
 Как же странно порою распоряжается людьми жизнь, как мало оставляют нам годы, чтобы вспомнить о минувшем! Если назвать мое место рождения, то оно и сегодня невольно удивит читателя своей неожиданной географией, как не перестает это удивлять до сих пор и меня самого. Как же странно порою распоряжается людьми жизнь, как мало оставляют нам годы, чтобы вспомнить о минувшем! Если назвать мое место рождения, то оно и сегодня невольно удивит читателя своей неожиданной географией, как не перестает это удивлять до сих пор и меня самого.
Я, Огнев Валерий Петрович, родился в селе Кум-Курган Джар-Курганского района Сурхан-Дарьинской области Узбекской ССР, где после войны встретились мои родители. Рядовой солдат Великой Отечественной Петр Васильевич Огнев и труженица тыла Ольга Трофимовна Бокаева были из тех самых миллионов советских людей, что помогли выстоять стране в суровые военные годы.
Лишь немногое мне известно из того, как они встретились вместе. Знаю, что отец мой из астраханских рабочих, появился на свет в 1914 году. Еще мальчишкой запомнил на всю жизнь знаменитый голод в Поволжье 1922 года, остался тогда беспризорником в Аральске, проехал зайцем на товарняках по всей Средней Азии, мечтая попасть наконец в Ташкент, город хлебный. Убегал не раз из детских домов, его ловили, он снова сбегал, пока не оказался в итоге в самой глубинке, далеком узбекском селе. Там и пригодился открывшийся в нем, уже подростке, талант народного умельца: научился он разбираться в тракторах, чинить сельскую технику. Был он к тому же парнишка крепкий: за передок «Фордзон» приподнимал, если надо. Места это были жаркие (подстать Кушке и не так уж далеко от нее), но и плодородные. До границы почти рукой подать, а из-за нее нередко наведывались басмачи – сам видел, как на спине одного коммуниста звезду вырезали…
Потом пришла пора службы в Красной армии, был призван из этих же мест, туда и вернулся, служил в самом главном тогда роде войск – кавалерии. Хорошо, что до этого и с лошадьми научился управляться. Нелегко было пройти кавалерийскую подготовку: ежедневно учились на скаку срубать саблей выставленные прутья. Кто не умел, часто попадал ею плашмя по голове своего коня, падал с него, но Петр Огнев на всех учениях получал только благодарности. Возвращался в 1934 году после службы в узбекское село, которое стало родным, по железной дороге через Алма-Ату, запомнил, какой разнообразной, многонациональной кухней отличались тогда ее базары.
Когда грянула война, Петра Огнева как ценного специалиста МТС не отпускали, дали бронь, но он все равно добился отправки на фронт, правда, в кавалерию не попал. Уже после войны, когда, спустя годы, наша семья жила в Алма-Ате, он в День Победы за праздничным столом обязательно ставил стакан с водкой, накрытый хлебом и выпивал до дна, не чокаясь, за тот же тост:
– За тех, кто не вернулся! – и нередко при этом повторял: – Считай, убили бы меня еще в сорок втором, если бы не счастливая случайность.
Мой отец не любил вспоминать о войне. Он был из тех фронтовых ветеранов, чья удивительная сдержанность и немногословность прерывалась лишь за праздничным столом в День Победы, после тех самых фронтовых сто граммов, которые напоминали им о тяжелых боях и безвозвратных потерях близких друзей. Война забрала у этих людей слишком много, чтобы говорить об этом в повседневной суете, и порою только после смерти, которая вырывала их из общего строя, мы узнавали, как, не страшась судьбы, совершали они свои военные подвиги. Скромность и молчаливость этих людей, не любивших говорить о себе, достойна отдельной темы. Познавшие самые страшные стороны войны, они невольно сторонились излишнего славословия и патетики, громких слов о подвигах и победах, появившихся затем многочисленных стихов, книг и кинофильмов о войне. Хотя именно сегодня об этом нам надо чаще всего вспоминать и говорить.
Иногда он вскрикивал и стонал по ночам, порой с какой-то особенной горечью заговаривал со мной о жестоких потерях во время боев в сорок втором. И хотя у него не было наград, он считал, что судьба уберегла его от смерти и ему повезло больше, чем другим. О двух таких удачах из своей фронтовой биографии он нередко вспоминал.
Первый раз смерть чудом почти прошла рядом, когда в составе 249-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии Калининского фронта он участвовал в наступлении советских войск под Витебском для оказания помощи партизанам, которые удерживали в тылу у немцев Суражский район. Это были знаменитые Витебские «ворота», которые потом немцы все же «закрыли». Что его заставило однажды, во время образовавшегося затишья, приподняться из окопа, он не помнил. Хорошо сержант – дай ему Бог долгой жизни! – тут же крикнул: «Эй, Петька! К старшине!» Очнулся он уже в медсанбате. «Счастливчик! – сказали ему. – Если б задело пленку мозга, был бы идиотом». Оказалось, стрелял немецкий снайпер, причем метил точно в лоб, если б Петр Огнев вовремя не обернулся на окрик сержанта. Пуля так пробороздила висок, что пришлось лечиться даже в полевом госпитале. Но уже через две недели он настоял на отправке на фронт. Правда, попал в часть, которую направляли под Сталинград. Там и ранило его окончательно, причем очень тяжело – одновременно в плечо и в ногу.
Под Сталинградом стрелковый взвод, в котором воевал рядовой Огнев, стоял на том участке фронта, где немцы сильно не двигались, а наши войска лишь создавали видимость активной обороны. Солдаты взвода по нескольку раз кряду днем и ночью бегали от пулемета к пулемету по длинной траншее, пуская очереди и напоминая противнику о себе. А наступление готовилось в другом месте. Правда, потом двинулись вперед и здесь – появилась пехота и танки, загудело все кругом от выстрелов артиллерийских орудий и – в атаку. Вот тут ему и досталось: пули попали в плечо – одна навылет, другую потом пришлось удалять, и искромсали ступню ноги. Был он в медсанбате в сознании и не соглашался отрезать ногу ни за что. «Делайте, что хотите, а ногу оставьте!» – кричал он врачам. Они и сложили все вместе, что оставалось от ступни. Девять месяцев он мыкался с ногой по разным госпиталям, от пролежней извелся, потом стал ходить с костылями, но на ступню наступить не мог, дикая боль. Так и комиссовали его совсем – думали, что не сможет он ходить без костылей.
И все же отец считал, что и здесь ему повезло, все обернулось самым удачным образом. Уже по дороге домой, на одной из узловых пересадочных станций он при переходе деревянного моста через железнодорожные пути стал спускаться на костылях по высокой лестнице. Ниже с такими же палками мучился одноногий матрос. Вдруг он упал, сломав одну из них, а вторую уронил вниз, в проем лестницы. Никого кругом не было, и хоть не мог мой отец двигаться без костылей, но тут же отдал их пострадавшему матросу. И с тех пор ходил всю жизнь сам – вначале через дикую боль, потом пообвык, приспособился, работал даже водителем МАЗа, тяжелого грузового самосвала, а затем – слесарем.
Вот и все, что после многих расспросов смог узнать я от отца о войне, он совсем не любил разговоров об этом. Во время застолья он иногда запевал, а вернее, громко проговаривал каким-то гортанным речитативом слова известной военной песни «Огонек»:
На позицию девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца…
О своей матери я помню сегодня очень мало: она умерла рано, когда мне исполнилось восемнадцать. Была Ольга Трофимовна на четыре года моложе отца, из воронежской крестьянской семьи, и выпали ей тоже с лихвой испытания тех грозовых лет. Помню, какой материнской лаской светились ее глаза, когда я был рядом с ней, и как не хватало мне потом ее в жизни. Для меня и сегодня она – самая замечательная мать в мире, как на одной из фотографий: в нашем частном садике, с котенком на руках. Помню, как в 1963 году ездили всей семьей в выходной на озеро Иссык в горах под Алма-Атой за неделю до того, как оно было трагически уничтожено горным селем.
Сохранился и снимок, теперь исторический: я с мамой на лодке посреди озера. Хотя фотографий семейных у меня совсем мало, никаких военных, и лишь одна, где мы все трое вместе, – единственная, что напоминает о нашей небольшой, но так дорогой сердцу родной моей семье…
К сожалению, наша память слишком беспощадна к тому, что всего ценнее и дороже, слишком быстро уничтожает ее время. Отец умер спустя более двадцати лет после смерти матери, в 1988 году. Первые стихотворения, которые я написал о войне, – «Баллада о костылях» и «Баллада об умерших травах». Последнее из них посвящалось солдатам Великой Отечественной, не вернувшимся с войны, и было опубликовано в казахстанской газете «Ленинская смена», в редакции которой по какому-то странному совпадению судьбы я проработал затем двенадцать лет. «Балладу о костылях» долго не печатали – тогда больше предпочитали говорить о парадно-героической стороне войны, наградах и подвигах. И только намного позже стали вспоминать о многомиллионных жертвах, об инвалидах, безымянных героях, до которых так и не дошли награды, о судьбах простых людей, кто честно и до конца исполнил свой долг перед страной.
К сожалению, все меньше остается в живых свидетелей тех героических лет, участников военных событий. Моему отцу так и не удалось встретиться после войны с теми, с кем вместе вое- вал. Но как легко ему было в День Победы, в парке, на встречах с фронтовиками, словно снова дышал он вместе с ними каким-то особенным воздухом свободы и молодости!
И рассказы этих людей отличались той безыскусностью и честностью воспоминаний о войне, отношения к жизни, что я, как журналист, многие годы невольно пишу о них. Иногда мне даже снится то, о чем рассказывал мне мой отец, настолько близко воспринимал я его судьбу – израненного, но счастливого тем, что он, как мог, до конца защищал свою страну и к тому же остался жив.
И теперь уже я вместе со своей семьей обязательно поминаю отца и мать и всех, кто не вернулся с той войны, в День Победы. И каждый раз рассказываю своим внукам о непростой, но славно прожитой героической судьбе их прадеда и прабабушки.
И твердо знаю, что для меня и для них в будущем дороже и ближе этой памяти ничего не будет.
МОЙ ОТЕЦ
… Не люблю холода весенние
И ночные дрожащие звезды…
Немецкий снайпер уже
прицелился в него,
Отца окликнули,
Он повернул голову в сторону,
И пуля, пробороздив висок,
Прошла в десятых долях миллиметра от мозга…
И пронизывающее песнопение
Ветров встречных с остатком мороза.
Мой отец мог быть убитым под Сталинградом,
Если бы выскочил из окопа чуть позже –
Пули попали в его плечо и искромсали ступню ноги,
Которую врачи потом кое-как собрали воедино.
И провалялся он после всего этого девять месяцев по эвакогоспиталям.
…Не люблю тишины и темени,
Неразгаданности предела.
Что останется в скором времени
От этой души и тела?
Мой отец жив и здоров
И не очень-то охотно вспоминает о войне.
Но в День Победы он обязательно
ставит на столе отдельно
Стакан с водкой, накрытой куском хлеба.
И поднимает другой за тех, кто не вернулся с войны.
А моя мама умерла, когда мне было восемнадцать.
БАЛЛАДА О КОСТЫЛЯХ
Эй, матросик,
Что гадать?
Где одна из ног?..
Ведь совсем
Не благодать –
Костыли под бок!
Доберись-ка за версту
К поезду «пять-бис» –
Нелегко-то на мосту,
По ступенькам вниз!..
Отчего так мир жесток –
Где ответ найти?
Деревянный тот мосток
Через все пути.
Подожди-ка, отдохни!
Лестница длинна…
И надолго уясни:
Жизнь – она одна!
Самокрутку из махры
Обмочи губой…
Вот и вышел из игры,
Сам теперь с собой.
Только что это? Кулем
Падаешь… И – стук! –
Костыли твои в проем
Полетели вдруг!
Где же друг,
С которым ты
Все делил, как мог?
Чтоб не падать с высоты,
Есть одна из ног.
Сколько пуль
Свистело? Где?
Что ж попал впросак?
Кто б помог твоей беде,
Да народ иссяк!
Хорошо – солдат хромой,
С костылями в бок,
К поезду «пять-бис» домой…
«Подожди, браток!»
Еле сам-то – силы где? –
Влез. Твердит чудак:
«Кто б помог
твоей беде,
Да народ иссяк!
На! Бери и будь богат,
С форсом не пыли!» –
И – как может
Брату брат –
Отдал костыли!
«Да! Бывает в жизни страх,
Что ни говори!
Я хоть хром –
На двух ногах,
Ты бери, бери!
Я почти уже могу,
Пробовал ходить.
Правда,
Отдает в мозгу –
Больно наступить!»
…Нынче жив ли тот матрос?
Есть ли тот солдат?
Мы не зададим вопрос
И не вспомним дат.
Знаю я, что мой отец
Был уж очень хром,
Но стал чудом наконец
Сам ходить пешком.
|