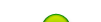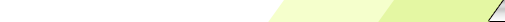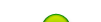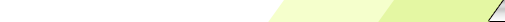И Я СМОТРЕЛ НА ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ…
Людмила ЕНИСЕЕВА-ВАРШАВСКАЯ
 Осенью 1942 года из Алма- Аты уходили на фронт 850 призывников. В основном это были выпускники школ. В их числе был воспитанник школы №28 Борис Абрамович, которого многие помнят по его работе в Бюро пропаганды советского киноискусства. Осенью 1942 года из Алма- Аты уходили на фронт 850 призывников. В основном это были выпускники школ. В их числе был воспитанник школы №28 Борис Абрамович, которого многие помнят по его работе в Бюро пропаганды советского киноискусства.
Жизнь Бориса Соломоновича была наполнена удивительным общением, необычайными встречами и впечатлениями. Но что бы ни происходило, самое дорогое воспоминание для него – фронтовые годы.
– Вообще-то в армию, – говорит Борис Соломонович, – я попал еще до призыва.
– Как это так?
– А мы все ходили и просились на фронт. И в декабре 41-го нас как добровольцев райком комсомола отправил в Высшее военно-морское Ленинградское инженерное училище, после чего путь лежал на фронт. Довезли до Баку, поставили на карантин и давай обмундировывать. Бушлаты сплошь старье, б/у 7-й степени – вата скаталась, заплата на заплате. Правда, вместо бескозырок дали шапки. Ну, да ладно. Потом ночью разбудили, погрузили в открытые, с высокими такими бортами полувагоны, в которых уголь возят, и – под Керчь, в Новороссийск. А на дворе январь, днем дождь – снег, а ночью бушлаты, как ледяная корка. Попростыли все, конечно. На какой-то станции нас разгрузили, а три четвертых эшелона – кто без сознания, кто как. У меня сухой плеврит, воспаление легких. И так, не доехав до войны, я попал в Ташкентский госпиталь.
– А как же место назначения?
– А там, оказывается, прорыв был, мы и не понадобились даже, и нас всех вернули домой до следующего, в сентябре, набора. А потом Ашхабад – пехотное уже училище.
– Сколько лет вам было?
– Семнадцать. В Ашха- баде проучились до января, потом все училище подняли по тревоге и айда на фронт. И вот интересно. Меня сейчас коробит эта дедовщина, всякие неуставные отношения. А у нас в минометный батальон пехотного училища пришел обстрелянный старший сержант Пузанов. Так он утром: «А ну, покажи, как ты завернул портянки! Ну, молодец, сделал все, как надо!» Или: «Ты зачем много пьешь? Тебе же сейчас в поход идти по пескам. Ты же весь потом изойдешь!» Это был настоящий батька. Дед-воспитатель, охранитель.
Питались мы далеко не шикарно, и когда уже выстроились перед отправкой на плацу, радовались: в эшелоне хоть отъедимся! А у нас обстрелянный старший сержант был Пузанов. «Что там будет, – говорит, – еще неизвестно, а вот в конюшню привезли жмых хлопковый. Так вы запасайтесь, хлопцы».
– И что, прав был?
– Как в воду глядел. Этот жмых почти два месяца выручал нас. Куда только ни мотали нас! Сначала под Москву, потом семнадцать суток стояли под Рязанью, затем перебросили под Сталинград. Но воевать там не пришлось, хотя мы видели даже, как Паулюса из подвала универмага выводили. Нас было около тысячи, это была хорошая подмога, но всех снова погрузили и – под Старый Белград. Только там мы получили боевое крещение. 81-я наша гвардейская дивизия под командованием генерала Морозова была сформирована на Дальнем Востоке и обстреляна под Сталинградом. Меня определили топоразведчиком. Окапывались мы крепко – чтобы от командного пункта дивизии можно было дойти, не пригибаясь, до передового наблюдательного пункта батальона. Труд, как понимаешь, был титаническим, а питание... В эшелоне под Рязанью, например, нам выдавали 410 граммов муки. И ничего больше. Пардон, тысяча мужиков. Наберешь на обочине путей снега, растопишь в кружке у буржуйки, вот тебе и болтанка. Галушки делали – квадратные, круглые, лишь бы как-то проглотить. Ни соли, ничего! А то все стены буржуйки лепешечками облеплены. Иногда кое-что перепадало от грузовых эшелонов. Так однажды я поел солидол – думали, что это комбижир. И когда пришли под Белград, Первое мая наступило, водку дали по сто граммов, и ничего больше. Наш Пузанов запивал ее настоящими слезами – от обиды. Бывало в эшелоне и так – сухарь в палец толщиной и банка в 400 граммов китового мяса на весь день для шестнадцати человек!
– Но почему же вас голодом морили?
– Потому что эшелон никому не нужным оказался. Мы не заняли еще боевые порядки и ни к какому довольствию приписаны не были.
– Блуждающий эшелон такой?
– Да. А в Белграде была еще и распутица. Старшина возьмет трех солдат – что принесут в вещмешках, то и есть. А приносили в основном сухари и концентрат. Горох, например. Пожиже разведут – это суп, погуще – пюре. А земляные работы сил требовали много. Сил и времени. Днем отводили нас в тыл дивизиона. Так я на этот горох с тех пор смотреть даже не могу. Зато когда дороги открылись, мешками сахар и табак носить стали. А там началась еще суворовская забота о солдате – присылали рецептуру повару. А у нас был Жумагул Назаров, алмаатинец, повар. Однажды мы спим после ночной копки и вдруг такая ругань – на всех возможных языках! Оказывается, он решил угостить всех борщом. А у нас была в то время трофейная немецкая кухня, и вот он все по этой самой инструкции сделал, пропорции соблюл, как вдруг из клапана, что наверху выпускает пар, как из мясорубки – колбаса. Оказывается, в рецептуре указаны были свежие овощи, а привезли сухие. И вот клапан этот и вырвало. Но это все лирика.
– Скажите, а что самое тяжелое на войне?
– Гибель друзей. Это я на себе испытал. Сколько живу, столько помню смерть Димки Елькина – замечательного парня-москвича. Было это на Кировоградщине, под Верблюжкой. Немцы закопали «фердинанд» – это такая самоходная бронированная пушка на гусенице типа танка-«тигра». И командир дивизии дал нашему полку команду организовать несколько наблюдательных пунктов, чтобы засечь эту пушку. Она в посадке, закопалась и никак не видна, а как что-то начинает двигаться по полю, тут же стреляет. И вот нас с Димой назначили следить за ней, и мы пошли в балку со стереотрубой. Наблюдаем по очереди: один смотрит, другой в углублении ждет. Я говорю: «Ну все, ты как бы отдежурил, давай теперь я!» Он: «Сейчас, сейчас! Вот только я…», – и в это время болванка попадает в торец бревна, ему мгновенно сносит голову, и он падает на меня. Я подхватываю его на руки, а толку что? Представляете! Так вот – на другой день ребята ведут пленного немца, а я сдержаться не могу. С кулаками на него набросился.
– Поди как в детстве, когда драка затевалась?
– Нет. У меня подружка была – Тамара Сладкова, она за меня дралась. А тут вот сам из себя вышел. Но это один лишь случай. А каких только смертей мы не видали там! В госпиталях умирали тяжелораненые. На поле бомбежка, ляжешь, прижмешься к земле, переждешь все, встанешь, а вокруг все полегли. Или – под Харьковом. Огуречное поле, все бросились собирать огурцы. А повар, земляк наш Жумаджума Назаров мешок даже прихватил, чтобы нас потом попотчевать. А тут истребители. Посекли все, смешали с землей. И Жумаджума не поднялся тоже. А то вообще бывала нелепость. Командир отдельного противотанкового дивизиона был у нас – Сушицкий. Уж он-то, казалось, в каких только переделках не побывал, все, что можно было и не можно на поле боя прошел, отовсюду цел вышел, а подлая, предательская пуля настигла его в тылу.
– Говорят, война открывает в человеке скрытые возможности?
– Причем для самого него зачастую неожиданно. На себе испытал, знаю. В 1943-м, например, меня контузило, семнадцать дней я пробыл в медсанбате с полной потерей зрения, слуха, речи. Потом все постепенно стало возвращаться, а вот говорить я не мог – полный рот языка. А тут разговор: приезжает эвакогоспиталь, и нас повезут в тыл. В тыл – это батальон свой потерять. Терять не хотелось, и решили тогда все пойти к Морозову. Пришли, он вызывает нас по одному, а я волнуюсь – как объясняться буду? И что ты думаешь? Открываю дверь его кабинета и четко, легко произношу каждое слово. Никаких тебе сложностей, язык срабатывает как надо. Вот вам и «не могу»!
Или вот зимой мы в какой-то хате остановились. Один к одному сидим, потому что лежать негде, и кто-то из медвзвода давай смеха ради температуру всем мерить. И что же? Самая низкая оказалась 37,8 градусов. То есть все были практически больны, но никто этого не чувствовал.
– Мобилизация внутренних сил?
– Если хотите. А до этого, когда я пришел из медсанбата, ребята дали мне хорошие офицерские сапоги. Только прохудились они. «Ничего, – говорит старшина, – завтра я тебе ботинки дам, а сапоги мы починим». Но тут на Харьков пошли, не до того было. И я остался в сапогах. Кожи нет, подклад только матерчатый. Так я все бои в них прошел, и ничего!
– Организм живет за пределами возможного?
– И это удивительно. Рассказывали у нас – артиллеристу руку оторвало, он взял ее в другую, здоровую, пришел к командиру и докладывает: «Задание выполнил!» Или: под Курской дугой комсомольское собрание. И – обстрел. Солдата ранило в плечо, кровь хлещет, а он: «Хлопцы, я же не заплатил комсомольский взнос!» А то вот друг мой, летчик Петя рассказывал. Его подбили, он попал в плен. И там, в плену, сохранял комсомольский билет... в ране. Свернул его, как сигарету, выдрал корку на теле и вложил. А когда рана зажила, продолбил в костыле отверстие, туда прятал.
– А как насчет страха на войне?
– Страх был, конечно, и всякий. Но больше всего я испытал его на Днепре. Алмаатинец, плавать не умею. А при форсировании связали жердями пустые бензобочки, закатили на них орудия, комплект боеприпасов, да нас еще, отделение разведки, посадили туда. И я, помню, только и думал: «Сейчас, сейчас перевернемся». У меня тогда привычка была такая – как только обстрел, мне надо что-то жевать. Так там, на Днепре, я две пачки махорки изжевал. Другой раз было страшно, когда «мессер» за мной гонялся вокруг сарая или амбара посреди поля.
– Охотился?
– Да, стрелял. А может быть, и играл. И еще был случай. Накануне Курской дуги 6 июля нас – нашу и 73-ю, тоже, кстати, алма-атинскую и тоже гвардейскую дивизии – бросили на стык. Немцы матчасть нашу пропустили, а машины с боеприпасами отрезали. То есть орудия есть, а стрелять нечем. Таким образом нас в цепь заложили, и мы давай выходить через лощинку. Народу – толпа! А немцы стреляют – удобная западня! Потом офицер один говорит мне: «Боец, следуйте за мной!» Как вышли, не знаю. Офицера ранило в ногу, с двумя ребятами мы вытащили его из-под огня и – в рощу! Слышим – грохот. Это повар наш на бричке, и какая-то небольшая кухня к ней прицеплена. Мы положили офицера на эту бричку, я подложил под него свой вещмешок, а пока ходил за автоматом – взрыв! Кони вместе с офицером сорвались вперед, и когда я вернулся назад, то увидел остатки наших дивизионов и ни одного орудия. День шел к концу, наступали сумерки, и было решено переждать здесь ночь. Ну вот. А наутро смотрим – невдалеке церковь большая, в ней наблюдатель и кричит: «Спасайтесь! Танки!» Как мы оттуда выбрались, это фантастика! Хорошо, подвернулся «виллис». Так сколько, ты думаешь, человек в него поместилось? Семнадцать! И мы на нем, этом «виллисе», между танками-то и проскочили. Ну, а когда начался танковый бой, земля под ногами пошла подыматься. Но вот тут – как на духу! – никакой боязни не было, потому что все были рядом и все вместе. И хоть шаткая, но земля! А потом еще и наши танки пошли.
– Существует момент предчувствия?
– Мне трудно сказать. У меня была чисто юношеская уверенность, что я пройду через все без царапины. И только третьего августа, когда меня стукнуло, я сказал – ага! Но предчувствия или мистического момента ни тогда, ни потом не было.
– Война – тяжелая работа. Переходы, бессонные ночи, бомбежки. Как обстояло дело с отдыхом и сном?
– Отдыхали, где придется и как придется, даже на ходу. Я не помню, чтобы я спал на кровати. Иной раз народу набьется в хату столько, что дай Бог притулиться. Ноги отекут, но ни расправить их, ни повернуться. Бывало, что и в чистом поле выроешь ячейку в снегу, плащ-палаткой укроешься. С ноября 43-го года по февраль 44-го я ни разу не разувался. Кто-то прислал мне портянки – так чтобы одеть их, я носки вместе с кожей снимал.
– Почему не переобувались?
– А когда? Я разуюсь, а тут по тревоге вставать. Что ж, я босиком побегу?
– Вы говорили про заботу о солдате. В чем она выражалась?
– Сначала были дивизионные бани, или так называемая «бочка Капустина». Бензобак – верх продырявливается, и заливается вода. Когда вода закипит, в нее закидывают обмундирование. Завшивленные все были страшно. Спит человек, а сам во сне чухается. Потом баня пошла полковая, а там банные палатки поставили. Три-четыре бани, и мы отделались от живности.
– А у немцев как было?
– У них белье нательное против паразитов особым составом пропитывалось. А у нас – самодельная «бочка Капустина».
– Бывало, чтобы кто-то не выдерживал?
– Самострелы? Нет.
– Тема репрессий существовала как-то?
– Нет.
– Бои, походная жизнь ожесточают человека?
– Естественно. Но дома я стал невольным свидетелем разговора мамы с соседками. Нас три брата и сестра – все были на войне. Сестра в эвакогоспитале. Я самый младший. И вот соседки спрашивают: «Ну, как он? Наверное, жестокий стал?» А мама: «Нет, ничего такого я в нем не заметила». Сейчас я понимаю, в чем дело. Во-первых, после мясорубки на Западе я попал снова в училище в Бухару, а потом в Ташкент. Занятия были напряженные, но все-таки в мирной обстановке. Была там и моя любимая художественная самодеятельность. Это хорошая отдушина. А в войне на Дальнем Востоке, куда я попал потом, все было цивилизованно и практически бескровно. Вся испытанная мной до этого горечь компенсировалась.
– Были случаи уклонения от армии?
– Практически нет, хотя, может, что-то и случалось. Потому что однажды одна из соседок меня спросила: «Ты действительно хочешь на фронт? А то одна бабка прививает экзему». Но для меня это была дикость несусветная.
– Помните у Высоцкого: «Он с рассветом вставал, он мне спать не давал, а потом не вернулся из боя». Были ведь какие-то несовмещения характеров. Как это все разрешалось?
– Пока мы учились в Ашхабаде, я был взводным запевалой. Однажды у меня пропал голос. Пошли в столовую, а командир: «Запевай!» Голоса у меня нет, я молчу. Он опять: «Запевай!» Опять молчание. Он: «Газы! Все одевают противогазы! Ложись, по-пластунски вперед! Встать, лечь, встать, лечь!» Словом, мучил он всех так, что в училище мы уже приползли. И один курсант сказал мне: «Будет оружие, первую пулю пущу в тебя!» Но когда меня третьего августа контузило, да еще завалило бревнами и придавило, то ведь спасал меня именно он.
– По дому тосковали, конечно?
– Когда была возможность, писали письма. Но длинное не напишешь. Во-первых, бумага по выдаче, а во-вторых, цензура. А потом, за несколько ночей до того, как призвали меня, мама вывела меня во двор и говорит: «Видишь Полярную звезду? Когда будет тяжело, смотри на нее. Я тоже буду смотреть».
– При сильных обстрелах всем хотелось, видимо, исчезнуть, слиться с землей?
– Даже до смешного доходило. Представляешь – колея. Солдат спрятал в нее нос, а остальное все наружу. Но он рад и такому укрытию.
– Вспоминаете все это часто?
– Смотря на какую тему заснешь. Раньше во сне кричал, ругался. И сейчас Женечка, жена моя, говорит, что по ночам на фронтовые темы разговариваю.
– В эти дни вам исполняется 85 лет. От души поздравляю вас.
– Очень признателен. Большое спасибо.
2009 г.
|