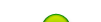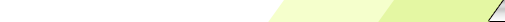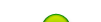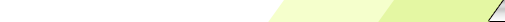Александр ТАРАКОВ. ГОЛГОФА ПРАВЕДНОЙ ВОЙНЫ
Его дважды возили на расстрел.
Свои.
 В самый разгар Сталинградской битвы. В самый разгар Сталинградской битвы.
Какую же измену совершил, обороняя волжскую твердыню, Василий Цуканов, чем навлек на себя позор?
Чушь, абсурд, однако факт: дурацкая листовка с призывом «Рус, сдавайся!» перевесила все былые заслуги солдата. Не зачлись ему ни выход из окружения, ни довоенная срочная, ни сталинградское стояние.
Протянул человек руку к пикировавшей прямо на него бумажке и тем подписал себе приговор.
Хотя не совсем так. Подписывать он ничего не собирался. Тем более что явно «шили» 58-ю статью, вменяя в вину намерение перехода на сторону врага. Дело стало за «царицей доказательств», так сказать, «за личным соизволением» последовать в рай или в гулаговский ад, а он упрямился. Тогда и организовали для острастки пару впечатляющих инсценировок, после которых парень облысел.
Понял: шанс выслужиться особисты не упустят – «покаялся» в преступном умысле. Чем умыл руки следователю и развязал руки «правосудию». А и не подмахни он ту стряпню, свою «десятку» все равно получил бы.
Дальше – больше. Лагеря еще на этапе едва не обернулись для Василия высшей мерой. В одном из пересыльных пунктов обезумевшая от голода толпа набросилась на гниль и вонь картофельных очистков... Ну и было потом... Вспухали животы, корча извивала тела... А он не поддался на провокацию судьбы и сберег себя для новых испытаний.
Не сломался, не свихнулся и Борис Иноченци, схлопотавший гулаговскую «бронь» за анекдот. (Анекдот, кстати, доныне актуален: «Иностранный специалист на крупной выставке вслепую, по шуму двигателей шпарил марки автомобилей. Нашелся шутник – привязал к кошачьему хвосту консервную банку. Дока и тут не усомнился: «А это советский газик!»).
Смешно? Самому рассказчику, однако, было не до смеха. Потому что благодаря чьей-то государственной бдительности предстал он пред строги очи следователя Ярцапкина. Тот дело знал туго. Каждый допрос начинал с демонстрации нагана. Затем, погромыхивая «пушкой» в ящике стола, цедил сквозь зубы про кадетский корпус и царские награды расстрелянного в 37-м году отца Иноченци, про отбывающую наказание (как ЧСИР) мать, про самого Бориса, паникера и подстрекателя, – и получалось что-то вроде фамильного заговора.
В общем, в недалеком будущем ждали Иноченци уральские каменоломни, кувалда, клин, неотапливаемый барак и норма в два куба скальной породы. Такова была плата бойца за веселость нрава.
Ну, а Ивана Карпова одели в бушлат, пожалуй, за солдатскую смекалку. Эта история напоминает первую, тоже связана с пресловутыми листовками, но масштабней как по их числу, так и по количеству выявленных «клятвопреступников». Думал старшина снабдить ребят даровой бумагой для самокруток, а получилось – вручил бесплатные билеты в «столыпинские» вагоны. И тем, кто курил, и тем, кто рядом был.
Их много, подобных историй, у сталинской инквизиции. Одна нелепее другой, одна другой чудовищней. Жутко подумать, и в условиях смертельной опасности репрессивная машина не давала сбоев. Доставало и соглядатаев, и провокаторов, и иезуитов-«делопроизводителей».
Вот они-то и занимались диверсиями. Наветами и шантажом калеча людские судьбы, из обороняющихся и атакующих порядков выбивая, как правило, лучших (из зависти, из мести, например, для нивелирования). Сужу так не наобум. Среди восемнадцати фронтовиков 26-й точки (Акмолинское отделение КарЛАГа) большинство составляли сержанты и старшины – бывалые, обстрелянные воины. В основном «листовочники», в основном «сталинградцы».
«Начало коренного перелома» довершали уже без них. Развивали успех тоже без их участия. Их, решивших самую тяжелую, первоначальную задачу живого заслона, теперь как будто не существовало. «Зэки», «враги народа», за сырым камнем, колючей проволокой, контрольно-следовыми (точь-в-точь как на государственной границе) полосами, они надрывным трудом искупали несуществующую вину.
Война откатывалась все дальше на Запад, а им облегчения не наступало. Гремели победные залпы, на весь мир звучали здравицы, но долгожданной амнистии не следовало. И надежды на то, что «уже теперь-то» с ними разберутся, неумолимо таяли.
После же того, как в АЛЖИРе (26-ю точку по назначению называли Акмолинским лагерем жен изменников Родины) поквартировал этап советских военнопленных, и последние мечты улетучились.
Привезли бедолаг, хлебнувших лиха в концлагерях, ночью, под брезентом. В считанные часы возвели глухой трехметровый забор, еще и завесой тайны окружили. Да шила в мешке не утаишь. Скоро все знали, что освободили ребят союзники – приодели, дух в теле поддержали, с музыкой проводили... А началась наша земля – в вагон вошли автоматчики. Приговорили весь эшелон к 25 годам. Из плена в неволю угодили великомученики войны, из огня да в полымя. За то, что не пустили пулю в лоб, не попали в газовые камеры, не сгинули бесследно. За то, что верили в победу, в возвращение.
...Забор исчез так же внезапно, как и возник. Как вещдок его уничтожили, что ли. Только главные доказательства – в земле. Иные этапы из крутых лагерей оставляли десятки трупов.
Мы, восемнадцать, выжили. Все-таки не Колыма выпала, не Север. Шоферская подготовка выручила – все мы оказались в двадцать шестой по набору на машины. Большое хозяйство вели здесь жены репрессированных руководителей. Две фермы обслуживали, швейную фабрику, выращивали овощи и зерновые. Культурные, обходительные. Много было среди них врачей, инженеров, педагогов. За них, разлученных с детьми для рытья арыков и шитья телогреек, было особенно обидно.
– Галина Шубрикова. Агроном, каких поискать надо было... А врачи... Лагерное начальство лечилось только у них, «врагов народа», гражданским меньше доверяло. Больницу, кстати, женщины построили своими руками. На совесть – до сих пор людям служит.
– Политическим противникам царизма таких сроков не давали, как нам, в общем-то еще бестолковым парням.
Слушал я Иноченци, а затем Цуканова и временами... не понимал. Потому что после серьезнейших политических разоблачений вдруг приподнято сообщался факт о награждении бывшей узницы АЛЖИРа Марии Тимофеевны Кузнецовой знаком «50 лет в КПСС», а после упоминаний о садизме особиста Геворкяна следовал рассказ о демократизме начальника Баринова, позволявшего ходить по территории лагеря без конвоя. Или вот еще что отметил: и называли они свой труд каторжным, подневольным, а тем не менее о производственных достижениях лагеря говорили не без гордости.
Поначалу подумалось: это – искривленная психика затравленных людей. Ведь что, кроме горечи, размышлял я, может испытывать Борис Федорович, вспоминая десятилетний плен у своих. На него, солдата, держава полагалась. В сорок первом, отслужив три года в кадровой армии, и двух месяцев дома не побыл снова призвали. 17 июня (!) получил повестку. Вот так-то. Запахло грозой – в числе первых вспоминали о старшине Иноченци. А Василий Иванович... Знаете, кем он был на войне? Старшим оружейным мастером отдельного зенитного дивизиона. Хороша была зенитка наша в работе, но норовиста, чуть не после каждого авианалета требовала ремонта, наладки. Что отнюдь не просто, особенно в боевых условиях. «Летучка» типа «Б» – мастерская на колесах, природная сметка и умелые руки старшего сержанта делали свое дело – «жарили» зенитки, строчили пулеметы, велся огонь по врагу изо всего наличного оружия. «Левша» на фронте, как нигде, ценился.
Увы, не слава стала участью солдат, увы, сама Победа их не осенила. Великий позор – Сталина и его клики – лег на их плечи. Вот почему так цепки были особисты, вырывая признания в несовершенных преступлениях, вот почему и после окончания сроков позор сопутствовал репрессированным – вождь и его сатрапы были заинтересованы в поддержании впечатления массовой вины.
Вздрагиваю, вспоминая, как настороженно воспринял мое телефонное предложение о встрече Василий Иванович:
– Ну зачем я вам еще понадобился?
Кому – «вам»? Что имел в виду ветеран? Надо полагать, журналистскую дотошность. А получилось обобщение старожила, которому и в восемьдесят нет охоты ворошить былое, у которого на закате жизни не философское умиротворение, а безысходность обиды.
Объяснил, что звоню от Иноченци, Борис Федорович взял трубку:
– Вася, ты неправильно понял. Он всю правду хочет написать.
...Убеленный сединами старик встречал меня у калитки.
– Извините, у нас горе. Бабушка наша недавно погибла... Газ взорвался на кухне...
Как мало было в жизни этих людей светлых, радостных событий. Гораздо больше – утрат и разочарований.
Сначала надежды связывали они с Победой, потом – с окончанием сроков. А вышли на свободу – перед ними закрыты города, отделы кадров. И не нормальная жизнь в отплату за перенесенный кошмар, а – мыканье.
Кадровиков не проведешь, а новым знакомым из числа приезжих на «переселенческий» вопрос отвечали: первоцелинники.
Да они и есть первоцелинники. Столько труда – и каторжного, и свободного – отдано Акмолинщине. Труда, невзирая ни на что, достойного и творческого. Хотя бы такая иллюстрация: слесарь насосного завода В. И. Цуканов сам себе был ОТК – работал с личным клеймом качества.
Так что «разностилье» в рассказах моих собеседников случалось вовсе не из-за травмированной психики, а от того, что им действительно есть чем гордиться в прошлом. Они не ожесточились, не озлобились. Не превратились в занудливых ворчунов, сумели сохранить свой особый человеческий стержень. И продолжали совершенствоваться в избранном деле. Иноченци рос как шофер, Цуканов (помимо водительских выполнял в лагере обязанности механика по швейным машинам и ухаживал за водонасосом) – как техник (в дальнейшем закономерно стал членом ВОИР, оформил десятки рационализаторских предложений).
Они создали семьи, воспитали детей, своею необыкновенной волей вывернули-таки жизнь на нормальную дорогу.
Переживали за то, что куда-то не туда идем, увлеклись болтовней и самобичеванием. Порядка, дисциплины, говорили, маловато. И это они – вкусившие с лихвой того и другого.
Взошедшие на Голгофу страданий, несгибаемые, вы сохранили веру. В Человека, в свое доброе назначение.
Мы это не ценили. Мы были в неведении. Все общество прозрело гораздо позже вас.
Простите же нас за бездуховность. И примите трагически запоздалый, но искренний поклон.
|