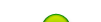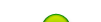СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ
Валентин Катков
 Из именного досье Из именного досье
Михаил Саввич Яровой – один из восьми полных кавалеров ордена Славы, также удостоенных звания Героя Социалистического Труда.
Родился 15 декабря 1925 года в селе Садки Могилёв-Подольского района Винницкой области в крестьянской семье. После окончания школы работал в колхозе. Ветеран Великой Отечественной войны, за героизм и мужество награждён двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степеней, медалями.
В 1954 году по путёвке обкома комсомола отправился распахивать казахскую целину.
В апреле 1971 года Яровому было присвоено звание Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства».
В 1995 году в Москве принимал участие в Параде, посвящённом 50-летию Победы.
Умер 19 июля 2007 года, похоронен в Костанае.
И ВНОВЬ ВЕСНА…
Несет вольный ветер запах оттаявшей земли, отогревает солнце холмистые бока древнего Тургайского прогиба, и тянутся над ним бесчисленные стаи перелетных птиц. Как и тысячи лет назад, они верны своему маршруту по голубенькой жилке Убагана, по ожерелью речных стариц и озер. Неделя, другая – и птичьим многоголосьем наполнились и ожили камышовые плесы урочища Шошкалы, на их пронзительной синеве забелели льдинками лебединые стаи; тучи казарок заклубились на утренних и вечерних зорях.
Весна во всем: в запахах, звуках, в душе, в каждой лужице и былинке. Словно воробьи на солнце, гомонят на просохшем школьном взгорке ребятишки. От машдвора, что на въезде в Татьяновку, плывет колокольный звон металла – сенокосную технику готовят механизаторы. Вековые тополя, кряжистые и могучие, на глазах сменили серый цвет коры и ветвей на зеленый.
Первую весну Яровой встретил не в поле, а на сеновале, которым предложили ему заведовать по настоянию врачей. Рядом с сеновалом – землянка, где сухо и тепло. И тихо. Непривычно тихо. На дощатом, покрытом газеткой столе лежат книги бывалых полководцев. В который раз перелистывается солдатская память.
Отпустив фуражирам корма, садится Михаил Саввич на сиденье от старой сенокосилки, что вкопано у входа в землянку. Далеко окрест видать отсюда. Татьяновка с высокими тополями и кустами акации как на ладони. А жизнь – и того видней. Хоть и говорится: прожить ее – не поле перейти. Да только можно жизнь и рядом с полем прожить. Оттого и благодарен судьбе Яровой, что не случилось с ним такого. Не искал он обходных дорог. А те, которые пройти довелось, и на две иных жизни многовато.
Недолго воевал Яровой – год с небольшим. Зато как воевал! Три ордена солдатской Славы свидетельство тому. Золотой звездой Героя отмечен его труд на целинной земле. Сыновья Иван и Владимир работают на полях, что им начинались с первой борозды. Дочери внуками радуют. Крепко сидят в земле корни могучего семейного древа. Да и как иначе: Яровой – фамилия хлебная. От земли стало быть. От ее плодородной силы, которая трудом и прирастает.
И вновь весна… И снова – праздник! «С сединою на висках… Со слезами на глазах». Пять лет тому назад судьба подарила ему встречу. Да какую! Готовилась в Боровском районе передача Центрального телевидения «От всей души». Приехали журналисты и к Яровому. Поговорили о войне, работе на земле. О фронтовых друзьях расспросили. Ну и рассказал он им о командире взвода лейтенанте Федоре Чикушкине: «Жаль, после войны след потерял: я – на целину, а он – где-то в России. Россия уж больно велика»… А потом передача «От всей души» вышла на экран. И был в ней момент, когда волнение стискивает горло и слезы радости блестят на глазах, – на сцене сельского Дома культуры обнялись фронтовые друзья.
– Три дня дали нам телевизионщики. Увез я Чикушкина к себе в Татьяновку. Вот это встреча была! Да только за три дня даже год войны не вспомнишь… Что особо запомнилось? То, чего не помню. Вспышка, взрыв… Очнешься, ощупаешь себя: руки- ноги целы. И рад, что живой. Трижды на моем «максиме» щиток разбивало, три контузии. Молодой был – не замечал. Очухался – и снова в бой. А вот в прошлом году аукнулись они.
Сенокос – пора горячая. С утра до позднего вечера ставил Михаил Саввич стогометателем те самые скирды, из которых теперь сено отпускает. Вот и в тот день солнце уже за горизонт упало, когда на землю спрыгнул Яровой. И покачнулась вокруг земля, словно взрыв беззвучный ударил рядом. Навалилась глухая темень. Когда очнулся, увидел лицо Веры – татьяновской медички, шприц в ее руках, и снова удивился – живой! Его уложили на заднее сиденье «Волги» и повезли в райцентр. Только там поняли, насколько серьезна ситуация. Пришлось вызывать самолет санавицаии. Уже потом, через два с лишним месяца лечения в Кустанае, врачи сами будут удивляться и радоваться – жив остался солдат – рядом костлявая ходила.
…Три главных дела сумел сделать в своей жизни Михаил Саввич Яровой: Родину от врагов отстоять, хлебом закрома ее наполнить, сыновей вырастить и дело им свое передать.
ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ
Как ждали они весну сорок четвертого! Она приближалась к селу Садки, что в Винницкой области, грозным рокотом орудийных раскатов. В марте наши войска освободили Могилев- Подольский район и Михаил, которому еще не было восемнадцати, одел солдатскую шинель. Стал пулеметчиком знаменитой 93-й гвардейской стрелковой Харьковской Краснознаменной дивизии. Вначале обучался, но в августе уже был на фронте. Готовилась Ясско-Кишиневская операция.
Запомнилась первая бомбежка: «Смотришь, как отрываются от грязно-зеленого брюха бомбовоза смертельные капельки и кажется, что каждая прямо на тебя падает… Веришь, яму под собой ногтями вырыл». Потом был бой. Жестокий. Сражен осколком наводчик, смертельно ранен второй номер расчета…
Из наградного листа: «28 августа 1944 года в районе села Фалга-Десус огнем своего пулемета гвардии рядовой Яровой М.С. поддерживал наступление стрелков. В этом бою из строя выбыл наводчик пулемета. Яровой заменил его и, ведя огонь по противнику, уничтожил 20 гитлеровцев, подавил одну пулеметную точку».
Через несколько дней, в одном из бессарабских сел вручили Михаилу перед строем первую боевую награду – Орден Славы III степени.
– В бою все равны, – размышляет сегодня бывший солдат. – Скидок на возраст или на рост – винтовка выше его была – не делают. Головой воюют. Попробуй наступать в открытом поле, где каждый метр земли пристрелян, а в руках у тебя не винтовка, а четырехпудовый «максим». Всем хороша машинка, да только в обороне. Наступать с ней – не сахар… Вот мы свою технику и придумали. Один бежит, к примеру, метров тридцать вместе с пулеметом, другой – в землю вжимается. Добежал, бросил пулемет – и в сторону, как можно дальше. Сыпанет немец мины, даст очередь – второй бросается к «максиму» и тем же макаром… Так и наступали, когда сухо было. В распутицу не побе- гаешь. Закончится бой, и ты рад, что живой остался, что еще одно письмо матери сумеешь домой написать…
Год войны за три считался. Только у каждого солдата своя мерка была. Яровой мерял войну письмами – возможностью матери и сестре весточку передать. О чем писал? О том, что близок конец войне, хоть и опасно огрызается загнанный в логово фашистский зверь. О том, что, вернувшись домой, будет по весне засевать землю не пулями, а зерном, дающим жизнь. Но та мирная весна лишь обозначалась впереди, а пока гибли рядом товарищи, шли в атаку батальоны, освобождая село за селом.
Конец марта сорок пятого гвардии младший сержант Яровой встретил в Чехословакии. Талая вода залила низины и овраги, сделала труднопроходимыми дороги. Невелика речка Грон, но разбухшая от весенних притоков, она стала надежным оборонительным рубежом для засевших на западном берегу гитлеровцев.
Из наградного листа: «В период наступательных боев с 25 марта по 6 апреля 1945 года на территории Чехословакии гвардии младший сержант Яровой, отражая атаки противника, пытавшегося приостановить наше наступление, огнем своего пулемета уничтожил пять пулеметных точек и 35 человек пехоты противника, чем способствовал прорыву обороны врага на западном берегу реки Грон».
Стремительно продвигались наши войска в те апрельские дни. Орден Славы II степени догнал гвардейца уже в Австрии, накануне боя за село Альт-Ахтенвард. Запах пороховой гари мешался с ароматом цветущих садов, в которых утопало уютно расположившееся под горой село. С одной стороны его окружало кукурузное поле, с другой, по склону, тянулись виноградники. Предчувствие близкого конца войны уже тревожило и радовало бойцов в обманчивой тишине мирного утра. Но полковая разведка установила точно: в селе – крупная группа фашистов, несколько десятков «тигров», полевая артиллерия…
Решительным ударом полк занял окраину села и был остановлен мощным огнем противника. На небольшом взгорке, с которого неплохо простреливалась дорога, облюбовал место для пулемета Яровой. Едва успели немного врыться в землю, как опомнившиеся после удара гитлеровцы пошли на позиции наших бойцов. Чадя и громыхая, подминая под себя яблони, ползли «тигры». Следом густыми цепями двигались автоматчики. Каждая контратака переходила в ожесточенную схватку. Яровой действовал хладнокровно и расчетливо.
Из наградного листа: «18 апреля 1945 года в бою за село Альт-Ахтенвард противник, подтянув свежие силы пехоты и танков, контратаковал наши подразделения. Гвардии младший сержант Яровой, подпустив вражескую пехоту на расстояние до ста метров, открыл ураганный огонь из пулемета, уничтожив около 30 человек пехоты, и обратив в бегство остальных».
Скупым языком документа высвечен только один эпизод боя за безвестное австрийское село. Бой, за который гвардеец был награжден орденом Славы I степени. Но он этого не будет знать еще пять лет после окончания войны.
– Воевали не за награды. Воевали за то, чтобы скорее закончить эту проклятую войну. Знаешь, какая красивая весна была в том году, и так сжималось сердце от обиды и несправедливости, когда рядом с тобой умирали товарищи. Ни о чем не думал в те дни – только бы живым остаться…
«Живым остаться» в те дни не означало прятаться за спинами товарищей, кланяться каждой вражеской мине или снаряду. Это значило – драться смело, решительно, не давая врагу поднять голову. Это и есть солдатская слава и верный шанс остаться в живых.
Утро 9 мая 1945 года встретил под Прагой. Трещали автоматы, смеялись и плакали солдаты. Из своего «максима» отсалютовал Победе и Яровой. Спустя пять лет, уже в родных Садках, получил он повестку из Винницкого облвоенкомата с приглашением прибыть к указанному сроку и очень удивился. Спустя пять лет он узнал, что является полным кавалером орденов солдатской Славы. Но это мало что изменило в его судьбе, которую он выбрал еще на фронтовых дорогах и утвердил в письмах к матери. Как и мечталось, стал трактористом. Работал в Могилев- Подольской МТС. Пахал землю, сеял хлеб, строил дом и мирную жизнь. Нетрудно представить, как она сложилась бы, если бы однажды не прокатилось по стране, по вишневым садам и соломенным крышам Садков набатное слово «целина!».
ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ!
«Винницкий областной комитет ВЛКСМ вручает настоящую комсомольскую путевку Яровому Михаилу Саввичу, изъявившему желание добровольно поехать на освоение целинных и залежных земель. 3 марта 1954 года».
Кустанай встретил разгулявшейся метелью и четырьмя духовыми оркестрами, гремевшего под стенами кирпичного вокзала. На перроне было черно от встречавших. Красивые слова говорили на митинге. Под ударами метели Михаил втягивал голову
в плечи и пытался разглядеть говоривших. Рослый мужик в овчинном полушубке, галифе и щегольских белых бурках хлопал по плечу бригадира Дмитрия Криворучко и рокотал баском:
– Все – ко мне. В Михайловскую МТС… В Татьяновке работать будете.
…В Татьяновку, бывший колхоз имени Свердлова, прибыли за полночь. Молодежь, собравшаяся в избе-читальне, не расходилась, ждала гостей. Звенели веселые песни и частушки под балалайку. А когда один из приехавших трактористов выпростал из тулупа гармонь – начались танцы. Под утро развели целинников по квартирам.
Поначалу, пока еще не поступила техника, закрепили за Яровым бульдозер – видавший виды «С-80».
– Ты, Михаил, теперь первый парень на деревне, – шутили друзья, глядя на позабывшего покой и сон товарища.
Оказалось, без бульдозера в селе ни шагу: вьюжным и многоснежным был тот март. После вечерней дойки доярки ставили у входа в базу вешки: к утру вырастали огромные сугробы и только вешки обозначали место входа. Дойка – в шесть утра. Значит, вставать Михаилу с первыми петухами и пробивать дорогу дояркам. Только откопал базы, дорогу нужно торить. И так – целый день. А там – и среди ночи зовут. Он не сетовал на свою беспокойную должность. Вот только с запуском двигателя, застывшего на морозе, мороки много. К тому времени перебрался на по- стоянное место жительства к старику Бекешину, дом которого выделялся среди прочих ухоженностью – крепок был хозяин. Когда- то жил Бекешин в пластовой землянке, постепенно дом отстроил. Полуобвалившаяся землянка пустовала.
– Уступи мне ее, Самуил Яковлевич, – попросил как-то Яровой.
– Да ты что, Мишка! Нешто в доме места мало, иль обижаем мы тебя со старухой, что в землянку собрался?
Но когда Михаил поделился с ним своими планами, одобрил: «Это по-нашему, по-хозяйски».
– Ты что тут строишь? – интересовались друзья.
– Гараж, – отвечал запросто Яровой.
– А где же машина?
– Разве трактор не машина? – вопросом на вопрос отшучивался Михаил.
Так в Татьяновке появился первый бокс для трактора. Сама собой отпала проблема: в любое время суток бульдозер был готов к работе. Может потому еще года три, как только ляжет снег на землю, начальство просило Ярового взять технику эту под свою опеку.
…Как ни вьюжил март, как ни прижимал по ночам мороз – весна брала свое. И однажды поставил Яровой на прикол свой бульдозер: всей бригадой отправились в Кустанай получать новенькие «ДТ». Гнали их тем же путем, каким зимой добирались до Михайловки. Только степь теперь была совсем другой: сверкали талой водой низинки, бурлили в оврагах вешние потоки, оттаивала и раскрывалась навстречу солнцу земля.
– Пахали тем летом днем и ночью, – вспоминает он. – Задача такая стояла: как можно больше распахать. А когда ударили морозы, погрузили наши трактора на платформы и отправили в Алма-Атинскую область. Там месяца полтора работали. В Талгаре и оставил я свой первый «ДТ» – команда была такая. Следующей весной в Кустанае новый получил, на котором уже десять лет работал, пока на «Кировец» не сменил… Да… Два друга у меня в жизни было: «максим» и «ДТ-54».
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
«За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот»… Яровому Михаилу Саввичу, трактористу совхоза «Борковский» Боровского района Кустанайской области».
В тот день Яровой припозднился в мастерской на центральной усадьбе: снимали коробку перемены передач с его «Кировца». До Татьяновского отделения добирался на попутном молоковозе. Стоял апрель и по обочинам грейдера уже серел подтаявший снег. «Через пару недель – в поле, влагу закрывать, – мысленно беседовал с собой Михаил Саввич, – а тут коробка забарахлила. Может, и не стоило сегодня ехать домой – переночевал бы с наладчиками в общежитии. А завтра, глядишь, до обеда и успели все сделать…» На крыльцо дома, отстроенного, как и мечталось, своими руками, поднялся затемно. Едва отворил дверь, понял: что-то случилось. По улыбке жены, по восторженному блеску глаз десятилетнего Ванюшки, по веселым лицам дочерей догадался – хорошее случилось.
– А мы уже читали, а мы уже знаем! – не вытерпел младший и выхватил из-за спины газету.
Несколько раз перечитывал Михаил Саввич Указ Президиума Верховного Совета СССР. Не верилось. Казалось вчера привезли его в тулупе в Татьяновку. Вместе с товарищами по бригаде, из шестнадцати хлопцев он да Дмитрий Криворучко вросли в эту землю, пережили и пыльные бури, и неурожаи, и другие невзгоды, которых в жизни всегда достаточно. Уже старший сын Владимир пробует дотянуться до педалей «Кировца», а Ванюшка рубит напрямую – трактористом буду, как папка.
Кем только не доводилось за эти семнадцать лет работать Яровому! Весной – на тракторе, летом – на стогометателе, осенью – на комбайне, зимой – в животноводстве. Шел туда, где было нужнее. Понимал: на него, коммуниста, смотрят другие. За то и уважали односельчане: если взялся Яровой – дело будет!
Когда поступили первые противоэрозийные культиваторы, глубокорыхлители и сеялки, даже опытные механизаторы возмущались: «Разве можно землю ковырять?» Яровой доказал – не только можно, но и нужно. В 1965-м году одним предложили сесть за парты – «Кировцы» начали поступать на целину. Другие наотрез отказались. Яровой без лишних слов собрал чемоданчик и поехал в Боровское СПТУ. И не промахнулся. Более десяти лет служил ему исправно К-700, который он передал потом Владимиру.
Вот и в те, апрельские дни, уставшего принимать поздравления Михаила Саввича пригласил к себе директор совхоза:
– Такое дело, Саввич, – оценивающе смотрел он на него, – с кукурузой у нас плохо. Сам, небось, знаешь: своего силоса едва на ползимовки хватает. Из других совхозов возим… Вот и решили мы на выращивание «королевы» лучших механизаторов поставить. Словом, быть тебе в Татьяновке кукурузоводом, а то, стыдно сказать, в прошлом году ваши едва по семьдесят центнеров наскребли с гектара…
Правду говоря, Яровой давно присматривался к кукурузным плантациям, почитывал журналы. Всюду речь шла о квадратах, а у них в совхозе мерная проволока ржавела на машинных дворах, стояли без дела специальные сеялки. Сеяли зерновыми – оно куда проще.
– Ну, а план какой дадите? – перешел к делу механизатор.
– Для начала, думаю, центнеров по сто двадцать на круг тебя устроит? – вопросом на вопрос ответил директор.
– По рукам! – кивнул головой Яровой. – Но только с условием – минеральные удобрения в полном составе… А план можно поднять до ста сорока – я эти земли знаю. На них летом нужно хорошо поработать.
Пришлось на время «Кировец» сменить на юркий МТЗ.
– От дождя все, а не от квадратов, – посмеивались над ним «бывалые» кукурузоводы.
– Осень покажет, – стоял на своем Михаил Саввич.
… Главная работа началась, когда появились первые всходы – начались междурядные обработки. Выбрал время, съездил в Степановку, где в колхозе «Север» трудился известный на всю страну кукурузовод Гулак, тезка Ярового. Кое-что у него перенял. Когда пришла пора итоги подводить, вышло у Ярового почти по сто восемьдесят центнеров на круг! Лучший результат по совхозу.
– И все же самое главное – хлеб! – размышляет сегодня Михаил Саввич. – Приходит август и тянет тебя к полю. К тому, что весной засевал. Оно еще желто-зеленое, тянется за горизонт. Волны по небу от ветра ходят. И такой простор, и столько богатства – душа замирает. Начинается жатва – куда болезни и хандра подевались. Веришь, до изнеможения работаешь и все думаешь: ну еще одну загонку – и спать. Бывало, по тринадцать тысяч центнеров намолачивал. И больше мог бы, но приходила пора на «Кировец» садиться, зябь поднимать.
Немного грустный взгляд светло-карих глаз, в уголках жестких губ прячется добрая улыбка
– Как быстро время летит… Моему старшему сейчас столько лет, сколько мне было в 1954-м. И о «Борковском» уже стали забывать – совхоз имени 25-летия целины теперь.
– А знаешь, как раньше в этих краях хлеб выпекали? – неожиданно спрашивает Яровой. – На неделю пекли. Один из семи дней для всей семьи праздником был – хозяйка вынимала из печи караваи и накрывала их чистым влажным полотенцем. Идешь по улице и по запаху чуешь, в каком доме хлеб испекли. Жизнь так пахнет… А для того, чтобы испечь хлеб, ой, сколько труда надо было положить! Хмель собрать, дрожжи сделать, зерно перемолоть, муку просеять, опару завести и всю ночь не спать, ожидая, когда она подойдет. Печь умело протопить, тесто замесить, да время не упустить – вынуть караваи… Тут не только знать, но и чувствовать нужно. Может потому, что чувствовать умели, и к хлебу бережно относились. Не нужно было человека через газету к этому призывать…
…Около десяти тысяч гектаров пашни в Татьяновском отделении. И в каждый из них вложен труд солдата и хлебороба. Земля отзывчива на заботу. Взрастила она хлеб, сыновей и дочерей, растит она сегодня внуков. Жизни жизнь дает. За то и воевал по-гвардейски пулеметчик Миша Яровой. Для того трудится гвардеец хлебной нивы, первоцелинник Михаил Саввич Яровой.
1984 г.
|