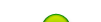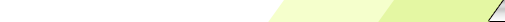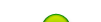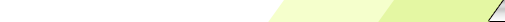Анатолий Ховин. В тылу как в тылу… или кусочек войны глазами подростка
 Посвящаю тёте моей – Эсфирь Борисовне Скоробогат, в войну – старшему лейтенанту артиллерийской службы, заместителю начальника цеха гранат завода № 254. Посвящаю тёте моей – Эсфирь Борисовне Скоробогат, в войну – старшему лейтенанту артиллерийской службы, заместителю начальника цеха гранат завода № 254.
Городок Дубровка в ста километрах от Брянска. Воскресенье, 22 июня 1941г. Река Сеща. Раннее утро. Друзья-подростки уже на рыбалке. Сперва в воду под коряги за раками. Потом чуть вверх по течению забрасывают удочки. Клёв и сегодня отменный. Ближе к обеду, счастливые от купания, солнца и наловленных раков, пескариков, плотичек, окуньков и слюнявых ершей, мчимся домой.
На веранде дома хмурые взрослые стоят вплотную у висящей на стене тарелки репродуктора. «Тише! Война!» – осадил мальчишек папа. Но им весело и беззаботно. Мы – пионеры и хорошо знаем, что «броня крепка, и танки наши быстры», и что враг вскоре будет разбит на его же территории. Мы – стойкие патриоты своей Великой Родины.
Такими нас выпестовали и многократно просмотренный фильм «Чапаев», и песни «Если завтра война» и «Всё выше и выше», и радиопередача «Пионерская зорька», и замечательные печатные издания «Пионерская правда», «Пионер», «Костёр»... А военные игры в школе? А сдача норм БГТО («Будь готов к труду и обороне»), ПВХО («Готов к противохимической обороне»), «Ворошиловский стрелок»? Нет-нет, «кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет». Поэтому ребятам весело и беззаботно: всё будет так, как им прививалось и ими впитывалось.
Но папа, видно, думает иначе. Его все уважают, и его мнение высокочтимо: он, единственный с нашей улицы, сражался у озера Хасан, прошёл польскую и финскую кампании, и поэтому его суждения считаются неоспоримыми.
... После речи Молотова взрослые безучастно молчат. Папа же вручает мне деньги и посылает в монопольку (так называли тогда винные лавки) за водкой. К моему возвращению уже забиты, опалены и разделаны пара боровков. Огромная сковорода стоит на двух примусах: всё готово для жарёнки и застолья.
Затаив дыхание, слушаю, о чём говорят взрослые – папа с друзьями.
Позже не раз поражался предвидениям отца, высказанным им в тот первый военный день. «Нас, мужиков, через день-два мобилизуют. Немцы через пару месяцев будут здесь. Надо прятать добро и готовиться к эвакуации».
К великому сожалению, всё так и произошло....
Чуть западнее Дубровки, у станции Сещинская (кинофильм «Вызываю огонь на себя» помните?) – крупный военный аэродром, а ещё ближе, но с востока – такой же у посёлка Олсуфьево. В первые же недели войны эти объекты немцы бомбили и днём и ночью. Гул от разрывов бомб был каким-то приглушённым (не так, как в кино), но необычайно грозным, вселявшим страх.
Нередко в небе происходили воздушные схватки, и мы становились свидетелями жутких картин пикирующих к земле подбитых самолётов с дымовыми шлейфами. Увы, чаще наших.
По ночам небо от горизонта до горизонта, словно зловещими тучами, закрывалось летящими бомбить Москву фашистскими эскадрильями. Их характерный, наводящий ужас, волнообразный вой и сейчас при воспоминании таранит уши.
Дом наш – напротив железнодорожной станции. В один из дней там остановился бронепоезд. Толпа народу сбежалась посмотреть на это, знакомое только по картинкам и кино, легендарное чудо («... и наш бронепоезд стоит на запасном пути»). Здесь же молча курили вышедшие из броневой машины красноармейцы. Как всегда, толпа все знает: якобы под Рославлем, в 50 км от Дубровки, уже немцы, а бронепоезд идёт на подкрепление нашим войскам.
Через несколько часов толпа вновь заполонила станцию. Из вернувшегося с боя бронепоезда выносили раненых, кто-то сам выходил в окровавленных на голове и руках бинтах. На нескольких носилках тела были прикрыты брезентом. Впервые увиденные кровь и смерть войны.
Уже в августе нас спешно эвакуировали. Какие-то взрослые, друзья уже где-то воевавшего отца, подогнали лошадь с телегой, побросали тюки с вещами, на них насильно усадили гостившего у нас ленинградского дедушку и, подъехав к составу, втолкнули всех нас вместе со скарбом в товарный двухосный вагон.
Надо сказать, что дедушка категорически отказывался бежать «от каких-то там немцев». Отмеченный в первую мировую за храбрость Георгиевской наградой, он считал их хотя и слабыми вояками, но достаточно культурными людьми, которые не могли, по его мнению, опуститься до уничтожения мирных граждан. Уже после войны стало известно, что немецкие войска вошли в Дубровку через полчаса (!) после отправления эшелона с беженцами. За время оккупации все не успевшие уехать евреи были фашистами уничтожены. Услышав эту страшную новость, дедушка, очень по натуре упрямый, заявил: «Всё это шпионские слухи! Этого не может быть!».
...Первая остановка эшелона с беженцами на станции «Брянск-товарный». Из маленького оконного люка в верхнем углу вагона было видно, что на путях скопилось несчётное число цистерн, платформ с военной техникой, лесом, вагонов, заполненных красноармейцами, беженцами и одетыми в гражданское новобранцами.
- вагоне жара, кричат маленькие дети. Женщины ругаются друг с другом за место поближе к дверному проёму: здесь и воздух посвежее, и нужду можно быстро справить (никто никого уже не стеснялся). Кому-то плохо. Спрашивают нашатырный спирт, валерьянку.
Ночью вдруг взвыли сирены: воздушный налёт. Внезапно где-то буквально рядом страшный, почему-то короткий и трескучий, звук разорвавшейся бомбы, потом ещё и ещё.
Странно, но нет страха. Нет вообще никаких чувств. Удивительно, но в вагоне тишина. Если кто-либо что-то произносил, на него мигом коротко и смачно цыкали.
На рассвете состав тронулся в путь. Никто не проронил ни слова о наверняка случившейся здесь, рядом с нами, страшной ночной трагедии. Иначе и быть не могло: уж слишком кучно стояли на железнодорожных путях эшелоны.
Неделя пути, и вот, наконец, конечная цель: Большая Ржакса Тамбовской области. Разместили нас по колхозным дворам близлежащих деревень.
- эвакуированных (выкавыренных – как произносили местные это мудрёное слово) настороженно, но приветливо. Здешние колхозники, ещё не познавшие всех ужасов этой войны и потери близких (в 1941 году коренных тамбовчан в армию не призывали из-за их будто бы нелояльного отношения к советской власти во время известного Антоновского восстания), тем не менее относились к нам с большим сочувствием. Они, оказывается, не знали, что есть такой народ – евреи, а узнав, удивлялись: «Надо же, такие, как и все». Плату за постой не просили, по праздникам угощали со своего небогатого стола. Но ближе к зиме настоятельно потребовали... солому. Говорили: «Просите председателя колхоза, чтоб помог!». Солома нужна для отопления русской печи, дров-то нет – местность степная, безлесная.
- топить печь надо было и для приготовления пищи, и для стирки, и для выпечки хлеба. И ...для бани. Вначале мы с удивлением наблюдали, как по субботам хозяева, нагрев горящими соломенными пучками под и свод печи, в три погибели скорчившись, залезали с тазом воды и веником из прутьев внутрь, закрывались заслонкой и хлестали себя, покряхтывая от удовольствия. Потом и мы освоили эту технологию, так как в печь загнали появившиеся «ползучие спутники войны» (спали-то на подобии кровати вчетвером – в два ряда и два валета).
- пошла к председателю колхоза просить солому. «Не могу, это колхозная, пусть хозява ваши не жмутся». Пришлось мне как старшему осваивать воровство колхозной соломы. Представьте себе вязальную спицу, увеличенную до полутораметровой длины с загнутым в кольцо одним концом. Вот этот штырь надо было по самую ручку вонзить в скирду и, вытаскивая крючком по небольшому пучку, набрать вязанку соломы, уплотнить её руками и крепко перевязать старыми вожжами, оставив свободный конец, за который и тащить волоком до дома (откуда и название – «волокуша»). Всё было бы ничего. Но! Выходить «на дело» – а это более двух километров – следовало не позднее четырёх утра. И не попасться никому на глаза. А тут ещё волками пугали. Хорошо, что этот «подвиг» пришлось за зиму совершить всего два-три раза. Признаюсь честно: сейчас бы я этого ни за что не сделал. От страха.
...В конце зимы сорок второго кончился запас муки. Денег нет. Посоветовали ехать в райцентр на базар и выменять какие-либо вещи на хлеб.
Сохранился, к счастью, довоенный почти новый папин бостоновый костюм. Как семье фронтовика председатель выделил сани и лошадь. Здесь замечу, что все крепкие кони были мобилизованы для нужд армии, и в колхозных конюшнях оставались «непригодные к строевой» клячи.
На рассвете – в путь. От нашего колхоза до райцентра около десяти километров. Какой-то мужик, не торгуясь, дал мне за костюм мешок пшеницы (пашёницы – по местному выговору), да ещё помог погрузить на связанное из толстых прутьев ветлы днище саней.
Гордый своей самостоятельностью, я разлёгся на покрытом старым зипуном мешке с зерном, и мой мерин по кличке Советский вяло (по-другому он просто не мог) зашагал по направлению к дому. «Вот сегодня, – думал я, – наконец-то у мамы не будет повода сказать мне, как это часто бывало, что у всех дети как дети, а ты…» Но она, заплакав, произнесла: «Чего же ещё ожидать от тебя?»
И было из-за чего: под зипуном лежал почти пустой мешок. Его угол провалился в щель днища саней, мешковина протёрлась от трения о накатанное покрытие снежного наста... «Что посеял на дороге, того не пожнёшь», – успокоил меня наш сосед-старик.
Никому бы никогда не пожелал испытать того моего позора! Но мир не без добрых людей: тот же старик пошёл по дворам и набрал «с миру по зёрнышку» да ещё договорился со своим другом-мельником, чтобы собранную таким путём пашёницу бесплатно помолоть.
Как ни странно, но случай с посеянным на дороге зерном пошёл на пользу: председатель колхоза определил меня в качестве своего посыльного.
Связи с райцентром не было никакой. То, что теперь зовётся телефонограммами, тогда передавалось по цепочке через вестовых от деревни к деревне. Бумажку с циркуляром из райцентра под роспись читал председатель колхоза первой по пути деревни, затем её принимал посыльный в следующем селе и т.д. Удивительно, но переписки было очень много. Поток писем-пакетов шёл и в обратном направлении. Работать приходилось весь световой день. И оплата начислялась неплохая: по полтрудодня за день.
- я, как и другие колхозники, так ни разу её и не отоварил. «Хлеба не родют», – как нам объясняли. Но в этом ли дело, когда под тобой весь день мерин Советский (да-да, тот самый!). Жаль только, что без седла. Но какой кураж! Даже мама с гордостью говорила: «А мой-то курьером работает!»
- то, что ничего доброго перевозимые пакеты для адресатов не содержали, это видно было по выражениям их лиц. Район требовал увеличить поставки сельхозпродукции, ускорить контрактацию скота, подготовить очередной контингент молодёжи для работы на военных объектах и стройках Урала и Сибири. Всё чаще наши пакеты принимали новые, совсем юные руководители: в 1942-м сняли ограничения по призыву в армию бывших антоновцев.
А на фронте немцы наступали. Приближалась Сталинградская эпопея. Поползли слухи, что скоро фронт дойдёт и до наших мест. Мамина сестра, работавшая на военном заводе в Челябинске, прислала вызов – таков был порядок военного времени. Но как добраться до Урала женщине с тремя детьми? Добрые люди подсказали: в Тамбове формируется эшелон для отправки рабочей силы на Восток.
Мама так и не поделилась, как ей удалось разжалобить начальника эшелона и принять к себе семью. Она только произнесла: «Мы должны Бога молить за этого человека, а деньги и добро наживём, если будем живы-здоровы».
Насушен мешок аржаных сухарей, славная наша хозяйка подарила банку топлёного масла.
Три недели пути в битком набитом товарном вагоне. Страх: а вдруг налёт? Но после Рязани, как говорили старшие, можно было спать спокойно.
Челябинск встретил холодом и дождём – осень. Шестнадцатиметровая комната в коммунальной квартире двухэтажного дома с бытовыми удобствами на улице. Нас восемь человек: четыре женщины (мама и три её сестры) и четверо детей. Всё время хочется есть. Пайка работающего – 800 граммов хлеба, пайка иждивенца – 300 граммов. Утром и вечером – кипяток с сахарином, в обед – суп из кипятка, заваренного крахмалом.
За хлебом, отпускаемым по карточкам, по очереди ходили дети. Существовало неписаное золотое правило: довесок съедался тем, кому сегодня положено идти в магазин.
В школе ученики получали завтрак: пятидесятиграммовый ломтик хлеба, стакан кипятку и чайную ложку сахарного песку. Детям фронтовиков паёк удваивался. С какой завистью на них смотрели остальные! В нашем классе такими счастливчиками были только двое (с военных производств мужчин, как правило, в армию не призывали): Толик Яковлев и ваш покорный слуга.
Трудно жили. Но мы, дети войны, знали по многочисленным плакатам, что здесь, в глубоком тылу, куётся победа и надо стойко всё выдерживать, ни на что не жалуясь и радуясь, когда к нашей помощи прибегали взрослые.
«Дети мои, – один-два раза в месяц обращался к нам наш любимый учитель, преподаватель математики, он же директор школы, Герман Лазаревич Лифшиц, польский еврей, ещё не освоивший русский язык, – дети мои, завтра не учимся, сбор у центральной заводской проходной в 7-45. Оденьтесь потеплее, возможно будет дэждь» (и снег, и дождь, и мороз он называл «дэждь»). «Уррааа!!!» – гремел класс в ответ. Никто никогда не опаздывал. Ровно в 8-00 все стояли по обе стороны конвейерной транспортёрной ленты.
Начинённые взрывчаткой ручные гранаты РГ-42 издевательски быстро выползали по транспортёру из соседнего участка нашего цеха номер пять. Мы едва успевали упаковать их по четыре штуки в плотные бумажные листы, перевязать крест-накрест шпагатом и подвесить к крючкам цепи, синхронно двигавшейся над транспортёром. Далее упакованные нами блоки попадали в ванну с расплавленным парафином.
«Для защиты от воздействия влаги при транспортировке на фронт», – объясняла тётенька-мастер в военной форме с погонами младшего лейтенанта.
Весь командный состав цеха был, как тогда говорили, аттестован и имел воинские звания офицеров артиллерийской службы.
Работая в цехе, я немного задирал нос, стараясь при этом казаться скромным: моя родная тётя в этом же пятом цехе занимала должность заместителя начальника в чине старшего лейтенанта. Незадолго до войны она окончила Ленинградский химико-технологический институт. Почти весь их выпуск был распределён на один из подмосковных военных заводов, производивших боеприпасы. После первых налётов немецкой авиации завод эвакуировали под Челябинск. Строительство жилья, цехов, подъездных путей, монтаж оборудования, отладка технологий и производство боеприпасов шли одновременно. Уже в декабре 1941 года продукцию завода стал получать фронт.
Работая на конвейере, то и дело поглядывали на настенные часы: в 12-00 обед! Нам, школьникам, полагался бесплатный стол: щи флотские (вода со следами капусты), капуста тушёная с чайной ложкой растительного масла, кисель из крахмала и кусочек хлеба.
Перед перерывом мастер выдавала нам талончики, по которым в столовой отпускались «блюда».
Незадолго до окончания рабочего дня большинство из нас, используя шпагат и парафин, лепили что-то похожее на свечи. Мастер делала вид, что не замечает. Но свечи были крайне необходимы для дома. Дело в том, что батареи центрального отопления почти не грели, и все квартиросъёмщики пользовались самодельными электронагревателями – козлами, как их называли. Пробки-предохранители, конечно, постоянно перегорали, на лестничных площадках жильцы устраивали жуткие перебранки, чуть не доходившие до рукоприкладства. И в результате все оставались и без света, и без тепла. Единственным источником света для приготовления уроков были свечи, так как о керосиновых лампах и не мечталось. Керосин – топливо стратегическое, он нужен фронту, мы знали эту истину.
...Но вот фитиль из шпагата закатан в мягкий, податливый, ещё горячий парафин – самоделки готовы; остаётся самое трудное: пронести их через проходную. Охрана из военных строгая и бдительная. Чаще всего наша афера заканчивалась провалом: свечи отбирали и записывали фамилии «контрабандистов» в специальный журнал. Но самым изобретательным «товар» удавалось проносить! Мой друг укладывал 2-3 свечи на спине между лопаток. Под одеждой они не прощупывались. Но и этот приём охранники в конце концов раскусили. Тогда приятель придумал новое. Он закладывал свечи в брезентовую, с мехом внутри, рукавицу. На посту он её снимал, чтобы рукой достать из кармана пальто пропуск и... свободно миновал проходную.
В то голодное военное время люди от усталости и недоедания порой прямо на рабочих местах падали в обмороки. Многие, отчаявшись, пытались тащить из завода всё, что можно было обменять в соседних деревнях на хлеб и картошку. Самым большим спросом пользовался этиловый спирт. Практически все взрывчатые смеси готовились с применением этого ценного продукта. Заводские умельцы поставили на подпольный поток изготовление специальных фляжек из нержавейки или жести вместимостью до двух литров. Эти ёмкости выполнялись «под фигуру заказчика» и повторяли формы тела. Под одеждой они сходили и за животик, и за грудь. На чёрном рынке действовала твёрдая цена: за поллитра спирта давали ведро картошки или буханку чёрного хлеба.
Нужно отдать должное руководству завода: к уличённым в выносе спирта подход был индивидуальный – от простого выговора бедствующим до передачи дел в суд на тех, о ком знали, что они шкурники и спекулянты.
Весной 1943 года директор завода полковник Семён Моисеевич Беленький, человек огромного роста и неиссякаемой энергии, взялся победить голод и провёл, как говорили взрослые, «масштабную земельную реформу». Каждая семья наделялась участком до тридцати соток, причём практически рядом с посёлком. Бесплатно выдавался инвентарь, семена овощей, картофель для посадки. Подшефный совхоз вспахал тракторами землю. По указанию директора специальная комиссия проверяла активность людей в проведении посевной кампании, в период полива, прополки и уборки урожая. Нерадивых примерно наказывали, даже вызывая «на ковёр» к самому, а боялись его страшно. Но и уважали безмерно.
- тёти не было дома более суток. И хотя завод отстоял от нашего посёлка в километре – полутора, и всякие слухи пресекались, мы знали, что в пятом цехе случился сильный пожар. Потом тётя рассказала, что, когда вспыхнуло пламя, все от неожиданности растерялись, но в приёмную директора кто-то сразу позвонил. Через несколько минут Беленький был на месте. Огонь безуспешно гасили, и пламя подбиралось к пороховому складу. И тогда директор, сбросив шинель, сам начал выносить в безопасное место тару со смертоносной начинкой. Его поступок остановил панику, и десятки мужчин последовали примеру своего директора. Надо ли говорить, каков был авторитет у этого замечательного человека?
Но вернёмся к нашим огородам. Опять-таки благодаря неуёмной энергии полковника Беленького все семьи посёлка ушли в зиму с 43-го на 44-й с запасами картошки, свёклы, лука, моркови.
...Много лет спустя, став директором крупного завода, я не раз вспоминал Семёна Моисеевича Беленького, его умение быть жёстким даже тогда, когда несёшь людям добро. Удивительно, но он настойчиво контролировал выполнение своей продовольственной идеи вплоть до копки погребов, правильности хранения урожая! Прав Шекспир: «Чтоб добрым быть, так надобно жестокость проявить!» ...Наша семья в ту осень накопала тридцать (!) мешков картошки. Под всей комнатой был вырыт глубокий погреб. Хлеба, правда, не хватало, но голод был побеждён.
Вечерами, в ожидании тёти с работы, мы говорили о наших фронтовиках, гадали, когда же придут от них письма. И придут ли?
Но этот вопрос вслух не задавался. Почтальона ждали каждый день с нетерпением. Но ожидание это было пропитано жутким страхом: а вдруг похоронка? Никому не доведись видеть эту картину, когда вручалось подобное сообщение! От папы долго ничего не было, и вдруг письмо из Московского госпиталя. Знакомый штампик «проверено военной цензурой», но, несмотря на это, из текста было ясно, что ранен он под Ржевом. Описал он это в виде шарады. «Первый слог – православный праздник, второй и третий слоги – имя пролетарского поэта». Долго гадали, но сошлись на том, что это город Спас-Демянск (Спас – праздник, Демянск – от Демьяна Бедного).
Младшая сестра мамы тётя Броня уехала на фронт из Челябинска в составе Уральского добровольческого корпуса. Где-то в пехоте воевал дядя Шура, муж маминой сестры Евы, работавшей в аппарате военпреда завода.
Трагически сложилась военная судьба папиных братьев: Исая и Моисея. В первые месяцы войны дядя Исай попал в плен. Кузнец по профессии, голубоглазый блондин, крепыш, он не был опознан как еврей. Ему удалось бежать из плена. Пробираясь по тылам немцев, он под Воронежем вышел к своим. Уже к концу войны папа узнал, что дяде Исаю не поверили («еврей не мог остаться жив в плену – здесь явное предательство») и отправили в штрафную роту, где он и погиб в первом же бою. Дядя Моисей после очень долгого молчания (а попал он на фронт в первые дни войны) прислал письмо с саратовским штемпелем, что ранен в обе ноги и пишет из военно-санитарного поезда по пути в стационарный госпиталь. И всё. Долгие годы, даже после войны, его безуспешно ра-зыскивали...
- пути-дороги... Какие они разные. Теперь мы знаем, что СМЕРШ (СМЕРть шпионам) – это любимое детище Сталина. Как рассказывал папа, уже после войны его как-то ночью вызвали из землянки на допрос к полковому представителю этой организации. «Объясните, почему вас зовут Адольф? Вы немец и скрываете это? С какой целью?» Никакие объяснения не принимались. «Ха-ха! Он обрезан! Но это же простейшая операция». Три недели (был период затишья) длились ночные допросы. Как-то утром, возвращаясь с очередной словесной пытки, он услышал окрик: «Адольф!». Подняв голову, в десятке метров от себя увидел двух генералов. Один из них был командиром его дивизии, второй же быстрым шагом шёл к отцу. «Адольф, не узнаёшь что ли?». Ба, да это его командир полка на финской войне, в то время полковник! А папа тогда служил в полковой разведке и, естественно, комполка знал своих людей в лицо, тем более что отец имел колоритную внешность, был весельчаком и заводилой.
Известно, что люди СМЕРШа не подчинялись армейскому командованию, и генералам немало пришлось приложить сил, чтобы убедить особиста в том, что «Адольф – НАШ человек». В течение трёх суток отец был гостем своего начальника по финской кампании. Ему дали землянку, ящик водки, продукты, приставили денщика. «Ешь, пей, спи – отдыхай», – сказал генерал, случайно приехавший навестить своего «соседа» и случайно спасший отца от верного штрафбата.
Но вернёмся в наше военное детство. Примерно раз в неделю и мальчишки, и девчонки вечером взбирались на крышу двухэтажного дома и обращали свои взоры на восток. Там, за лесом, километрах в трёх располагался испытательный полигон. Мы не могли, конечно, видеть, как испытывались выпускаемые заводом гранаты-лимонки и уже знакомые вам ручные гранаты РГ-42. Но мы ждали с нетерпением испытаний так называемых двадцатишестимиллиметровых сигнальных патронов для ракетниц. Это был тоже один из видов продукции тётиного пятого цеха. Из обрывков разговоров взрослых мы знали, что не ладится у них с этой капризной, но очень важной и для фронта, и для партизан продукцией. Ракеты то сгорали сразу после запуска, то, не сгорая, долетали до земли. Тётя часто приходила с работы очень расстроенной: на планёрках у директора ей крепко влетало как отвечающей за технологический процесс. Взобравшись на крышу, мы подсчитывали, сколько ракет из партии ушло в брак.
Хорошо помню, что впервые тётя была по-настоящему весела в День Красной Армии 23 февраля 1943 года. Именно к этому времени технологам удалось найти и устранить какую-то досадную ошибку в рецептуре смеси, используемой для двадцатишестимиллиметровок. Вечеринка по поводу праздника состоялась в нашей комнатке. Присутствовали тётины подруги-сослуживцы. Пришли они сразу после работы, все в военной форме, красивые и шумные. Теперь-то понимаю, как молоды они были: прошло всего 3-4 года после вручения им институтских дипломов. В одну из них – тётю Алю – я, тринадцатилетний, был тайно влюблён и даже ревновал её ко всем потенциальным ухажёрам. С той военной поры у меня до сих пор сохранилось романтическое преклонение перед женщинами военного времени.
Сколько они выстрадали, сколько недолюбили! Это они составляли силу и мощь и тыла и, в большой степени, фронта.
Нередко и сейчас вспоминаю слова замечательной песни, услышанной в конце войны:
По мосткам тесовым вдоль деревни
Ты идёшь на модных каблуках,
И к тебе склоняются деревья,
Звёздочки мерцают в небесах.
Запоёшь ты песню в час заката –
Умолкают птичьи голоса,
Даже все женатые ребята
Не отводят от тебя глаза.
Только я другой тебя запомнил:
В сапогах, в шинели фронтовой,
Ты у нас в стрелковом батальоне
Числилась по списку рядовой...
О тебе кругом гремела слава,
Ты прошла огонь, чтоб мирно жить,
И тебе положено по праву
В самых модных туфельках ходить.
Я иду росистою тропою
Словно по приказу за тобой.
Я в боях командовал тобою,
А теперь я вроде рядовой.
Далеко твой звонкий голос слышен, Все деревья в лунном серебре.
Две пригоршни цвета белых вишен
Бросил ветер под ноги тебе.
Школа в нашем посёлке – шестилетка. Учиться дальше – это на полпути к Челябинску, семь километров от заводского посёлка. Нас, новых «ломоносовых», набралось всего четверо. Добирались зимой в ясную погоду на лыжах. В другие дни – пешком.
Вот тогда-то приноровились мы ловить заводские полуторки-попутки, постоянно курсировавшие между заводом и городом и перевозившие хлеб, продукты, товары для магазина и некоторые вспомогательные материалы для нужд завода.
Мы помнили номера всех заводских машин, знали в лицо и по фамилиям всех шоферов, наловчились вмиг и незаметно вскакивать в кузов через задний бортик. Нередко нас высаживали. Но были и шофёры-добряки, которые делали вид, что нас не замечали. Освоив попутный «автостоп», мы могли позволить себе после школы посетить кино, театр в центре города.
Возвращаясь, поджидали «наши» машины на железнодорожном переезде около ЧТЗ (Челябинского тракторного завода, выпускавшего в войну знаменитые танки – «тридцать четвёрки»). Здесь автомобили притормаживали, и наша задача сильно облегчалась...
В памяти один случай. Вот она, наша попутка: заводские номера! Мы с другом прячемся за столб шлагбаума, а затем, перемахнув через задний борт, приземляемся на что-то угловато-жёсткое. Приподняв край брезента, обнаруживаем лежащие в кузове навалом жестяные банки с американской свиной тушёнкой. Мы знали чудесный вкус этого заморского дефицита, так как нередко мясо по карточкам отоваривалось этой вкуснятиной. Соблазн был велик: подъехав поближе к дому, сбросить пару-тройку банок, и готов царский ужин! Но! (ох уж это «но»): идёт война, нас только-только приняли в комсомол, папы на войне... Короче говоря, «кража века» не состоялась. Позже мы с другом сожалели об этом.
Дело в том, что везшего нас шофёра в посёлке не любили, хотя и был он вратарём заводской хоккейной команды. Грубиян, драчун и пьяница, он был объектом постоянных насмешек (конечно, за его спиной) из-за носа, похожего на крючок, с соответствующей фамилией – Кривонос. А сожалели мы об ускользнувшей от нас тушёнки потому, что Кривоноса вскоре арестовали и осудили «за хищение социалистической собственности в условиях военного времени».
...Всегда, когда в те военные годы приходилось бывать на челябинской улице им. Спартака, в восточной её части, одолевало смешанное чувство радости и восхищения: вот здесь, рядом, в нескольких десятках метров от тебя – выпускались прославившиеся на весь мир танки Т-34. Гордостью завода являлась не только его знаменитая продукция, но легендами овеяно было имя Исаака Моисеевича Зальцмана, директора ЧТЗ. В 1938 году в тридцатитрёхлетнем возрасте он назначается директором Кировского завода в Ленинграде. Челябинский тракторный И. М. Зальцман возглавил в октябре 1941 года, одновременно совмещая эту должность с постами заместителя наркома, а затем и наркома танковой промышленности СССР. Генерал-майор инженерно-танковой службы И. М.Зальцман – Герой Социалистического Труда, кавалер трёх орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Красной Звезды, полководческих орденов Суворова 1-й степени и Кутузова 2-й степени, лауреат Государственной премии, депутат Верховного Совета СССР. Он был не только великолепным организатором производства, но и талантливым инженером. Уважение челябинцев к нему выразилось и в таком прямо-таки комическом факте: отрезок улицы Спартака, на котором стояли жилые дома заводчан и производственные корпуса, в народе именовали Зальцманштрассе.
Огромное внимание он уделял быту рабочих; мог, по рассказам, облачившись в комбинезон, устранить неполадку на сборочном конвейере.
Как-то посёлок нашего 254-го завода был отрезан от внешнего мира снежными заносами. Генерал Зальцман по просьбе нашего директора, полковника Беленького, направил колонну только что сошедших с конвейера танков по направлению к нашему заводу (вместо обычного испытательного пробега на своём полигоне). Пурга не унималась почти сутки, и всё это время под «прикрытием» танков заводские автомашины беспрерывно доставляли на завод продовольствие и другие необходимые грузы.
Мне посчастливилось дважды лицезреть этого великого человека. В 1944 году он приезжал с деловым визитом на наш завод. Слухи об этом событии поползли за несколько часов до его прибытия, и мы, мальчишки, всё время шныряли вокруг заводоуправления, пока не увидели самого Зальцмана, проворно выходящего из «Эмки» и встречаемого нашим директором.
А 8-го мая 1945 года по заводу стал ходить необычный слух – о предстоящей вот-вот капитуляции гитлеровской Германии. На площади у заводоуправления с вечера начали собираться свободные от работы люди. Но широко раскрытая пасть огромного динамика на высоченном столбе была безмолвна. Время от времени молчание нарушал сигнал настройки, подаваемый радистом: «Раз-раз-раз-раз...»
И так продолжалось всю ночь и до полудня 9-го мая. И вдруг!.. Сотни людей, не дослушав сообщения о победе, ринулись к асфальтированному шоссе, ведущему в Челябинск. При приближении к городу не было видно ни начала, ни конца стихийно возникшей колонны: лился сплошной людской поток. У уже знакомого нам железнодорожного переезда колонна вынужденно остановилась, пропуская шествующий по Зальцманштрассе многотысячный коллектив ЧТЗ, возглавляемый И. М. Зальцманом и не менее знаменитым главным конструктором Ж. Я. Котиным. Для меня это была вторая встреча с Главным Танкостроителем СССР.
...В семидесятых годах в журнале «Коммунист» появилась его большая статья «Уроки Танкограда», которая и сейчас может быть ценнейшим пособием для молодых руководителей производства. В 1984 году вышел телевизионный сериал о жизни танкостроителей военного времени. В главном герое, которого талантливо сыграл Виталий Соломин, безошибочно угадывался его прототип – И. М. Зальцман.
...В 1986 году я был в командировке в Ленинграде на Кировском заводе. Беседуя с главным конструктором, осторожно спросил, не знает ли он что-либо о судьбе Зальцмана. «Как же, знаю, – сказал он, улыбаясь, – Исаак Моисеевич работает у нас конструктором. Ему уже за восемьдесят, но он всё ещё дерзает...»
Война сделала детей взрослыми. Научила жизни. Научила их думать, решать, делать выводы. Дети войны уже в основном пенсионеры. И их дети уже деды. Но то военное лихолетье не забудется никогда.
После войны – это просто немыслимо! – минуло шестьдесят лет. Никогда не забудутся те 27 миллионов, жизнь которых унесла война. Никогда не сотрётся память о десятках миллионов искалеченных войною.
Нескончаемая благодарность и ушедшим от нас после войны, и ныне живущим участникам войны – как тем, которые были на фронте, так и тем, в одинаковой мере, которые сражались в тылу и ковали победу.
И пусть радость Великой Победы не позволит ослепить людей и забыть о до сих пор не выполненном перед ними долге.
Ещё не похоронены многие сотни тысяч погибших, воевавших за свободу своей Родины.
Ещё не подведены исторические итоги войны.
Ещё не воздано должного обвинения тем, кто своими ошибками и недобрыми действиями перед и во время войны виновен в неоправданных потерях миллионов людей и неисчислимых материальных ценностей нашей бывшей державы – Советского Союза.
Ещё не рассказана людям вся правда, почему победители нищенствуют, а потомки поверженных в войну процветают.
Вот тогда, когда будут ответы на все еще и все почему, у живущих появится полное право достойно отмечать Праздник Победы. Об этом надо помнить. В этом долг перед всеми погибшими.
|