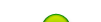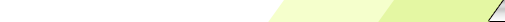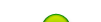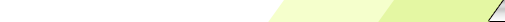Владимир РОНКИН, Заслуженный работник образования Республики Казахстан
 Все мы родом из детства Все мы родом из детства
Мы, дети войны, прожили свое детство и юность как бы в трех временных поясах, в трех измерениях: до войны, во время войны, после войны. В моей памяти зацепились только какие-то обрывки нашей довоенной жизни. Очень сладкая водичка, которая мне нравилась и называлась почему-то не по-русски – ситро. Это приятные воспоминания в 37 лет. У него, как у номенклатурного работника, имелась бронь, но он добровольцем ушел на фронт. Это было нормально для него. Он попал во взвод разведки. В августе 41-го во встречном бою с вражескими разведчиками ему навылет прострелили грудь, легкое, и он на три с лишним года исчез с нашего горизонта, но не из моего детского сознания. Конкретные черты его лица не сохранились у меня в детской памяти. Остался только мифический образ человека – моего отца, который разобьет фашистов и вернется к нам с победой. Я вспоминаю наши диалоги с матерью той военной порой. Она, взрослый человек, представляя реальность и не имея долгие годы никаких известий об отце, говорила: «Твой отец, наверное, давно ножки протянул».
Я же отстаивал свое право иметь живого отца, победителя фашистов, и с детским упрямством твердил: «Нет, мой отец жив, бьет фашистов и придет».
Во время войны мы, дети, быстро повзрослели и разучились плакать, но научились ждать.
Матери своей я благодарен и за то, что она спасла меня от верной смерти.
В 1983 году мы с моим зятем Павлом Красниковым и сыном Димой совершили из Можайска автопробег до моей малой родины – города Велижа. Хотелось мне побывать в тех местах, где поженились мои родители, где я родился, места, о которых не помнил. И вот мы в пути. Любимые мною московско-смоленские леса, прорезанные лентой великолепной автострады Москва-Минск. На обочине время от времени мелькают стандартные гипсовые обелиски над братскими могилами погибших солдат. А так почти ничто не напоминает о происходивших здесь сражениях. А ведь на этом мирном шляхе история сталкивала в смертельных схватках поляков и русских, французов и русских, немцев и русских. И кто сосчитает, сколько полегло в этих мирных московско-смоленских лесах и на этих изумрудно-желтых полях людей? Смерть не выбирает ни места, ни национальности. У нее своя анкета.
Но вот и Велиж. Городок старинный, исторический. Ищу ту улицу, где когда-то жили мои родители, дед, бабка. Посылают в один дом, в другой. Нахожу старых людей, но и у них какие-то обрывки воспоминаний. Новые люди, новая жизнь. Как же быстро истончается, уходит из памяти наше прошлое. Вот и городской сквер. Здесь фашисты оборудовали еврейское гетто. На этом месте зарыты в шар земной и останки девяти тысяч моих соплеменников. Их вина только в том, что они родились евреями.
Это малый Бабий Яр. Стою над прахом этих людей и почти физически чувствую, что и я мог там быть и не писать сегодня этих строк, и на мне бы кончилась фамилия Ронкиных.
Отец, как и большинство людей того времени, был воспитан на ура-патриотической песне: «…и от Москвы до британских морей Красная Армия всех сильней» и жил в убеждении, что победа достанется легко и малой кровью, а война будет на чужой территории. Грешно нам, потомкам, критиковать их за эти иллюзии. Каждое поколение людей рождает свои мифы.
Отец предложил маме, пока он «малость повоюет», поехать со мной к родне в город Велиж и там его ждать. Что случилось бы, если бы мы так поступили, вы уже знаете…
Шестью миллионами ста тысячами жизней заплатили евреи Гитлеру за право быть евреями, а от них он взял особо страшную дань – загубил полтора миллиона детских душ.
В ноябре 1995 года я побывал в Иерусалиме и посетил Яд-Вашем, маленький городок – памятник скорби по погибшим евреям. Когда я смотрел в темноте зала на тысячи огоньков, отражающих свет всего четырех горящих свечей, память по убитым детям, я чувствовал, что и моя душа скорбит и плачет по ним, сверстникам моих военных лет, навечно оставшимся в том времени.
Война дает уроки жестокости и взрослым, и детям. Мы хотели быть сильными и суровыми мужчинами. В детском саду в Оренбурге (тогда Чкалове) мы все рисовали и лепили из глины танки, пушки, самолеты и удивлялись одному мальчику, который здорово рисовал лошадей. Я с недетским восторгом пел «Священную войну» и «Варяга». Детских песен я не знал ни одной. Наши уличные игры были тоже немирными. Я помню, как мне, шестилетнему пацану, старшие ребята предложили покрыть голову густым слоем красной глины, символизируя этим, что я за красных, а в жестокий тридцатиградусный уральский мороз порекомендовали приложить язык к трубе. На ней остался кровавый след от моей глупости, и ребята громко смеялись над веселой шуткой.
О голодных годах войны писали много. На своем личном опыте я познал постыдное занятие вора. Нашу эвакуированную семью подселили в квартиру главного инженера горкомхоза. Это была зажиточная семья. Они жарили картошку на сливочном масле и не всю съедали. Сковорода стояла в кухне на плите, прикрытая миской. Я сильно отощал на скудном материнском пайке. Она в то время работала на оборонном заводе, бухгалтером в цехе. Запах жареной картошки проникал в нашу комнату и наполнял ее всю таким божественным ароматом, что я не выдерживал. Тихонько прокрадывался в кухню и говорил себе: я возьму только одну маленькую картошечку. Осторожно сдвигал миску, прикрывающую сковороду, быстро хватал и засовывал в рот этот вкусный кусочек. Это было лакомство, я испытывал блаженство. Затем быстро покидал кухню, заметая следы преступления. Но через несколько минут все начиналось сначала. Моя воля капитулировала. Я себе говорил: еще только раз возьму и больше не буду. Я сгорал от стыда, но все повторялось сначала. Я был удачливый вор и ни разу не попался.
А летом где-нибудь в сквере я зорко высматривал тех, кто ест арбуз, и терпеливо ждал, когда человек бросит арбузную корку. На ней всегда оставалась какая-то малость красной сладкой мякоти. Когда рядом никого не было, я быстро поднимал корку и с наслаждением вгрызался в нее, доедая ее до зеленой оболочки, при этом пугливо озираясь, не видит ли кто. Но самым большим лакомством для нас, пацанов, был жмых, который мы воровали с машин, отъезжающих с маслозавода. Он предназначался для коров, но нам казался вкуснее конфет-подушечек. Такие карамельки время от времени мы получали в детском саду. Кстати, тогда я сделал удивительное открытие, что обед бывает из трех блюд. Мама меня устроила в круглосуточный детский сад при заводе, и я первый раз сел там обедать. Быстро съев суп, я поблагодарил воспитательницу и встал из-за стола.
«Подожди, Вова, – сказала она, – сейчас принесут второе». «А что, бывает еще и второе?» – с недетским удивлением спросил я. Она, добрая душа, рассмеялась и сказала: «И второе, и компот на третье». Так мы, дети войны, с запозданием познавали нормальную человеческую жизнь.
Вообще-то воспитателей своих я не запомнил, а вот художницу Ирину Денисовну помню хорошо. Она эвакуировалась из Ленинграда. Некрасивая, нервная и хромая Ирина Денисовна была прекрасным рассказчиком. Вечером, после ужина, когда закрывали ставни на окнах (детский сад размещался в старинном купеческом особняке), мы садились в кружок и она рассказывала нам о каких-то путешествиях, экзотических странах, диковинных животных. Мы погружались с ней в фантастический мир неизвестного. Наше воображение расцвечивалось всеми цветами радуги. Потом мы уже сами строили из табуреток и стульев, одеял какие-то пещеры, замки. Проигрывали сюжеты из ее рассказов. Теперь я понимаю, что это была настоящая дошкольная педагогика. Ребенок лучше воспринимает устный красочный рассказ, сказку воспитателя, учителя, чем прочитанную книжку. Он как бы становится вместе с педагогом соавтором этой сказки, в которой кое-что можно изменить и поправить. Воображение, фантазия ребенка не знают границ, и это прекрасно. Приоритет устного пересказа сказки перед обычным чтением отстаивал и Рудольф Штайнер в своей вальдорфской школе.
Летом нас, детсадовцев, вывозили на дачу в Зауральную рощу. Там неподалеку находился стрелковый полигон, где новобранцев обучали стрельбе. Солдаты нам, пацанам, дарили стреляные гильзы от холостых патронов. Для нас эти пахнущие пороховым дымом металлические стаканчики были желанным подарком.
Мы, дети войны, умели не показывать свою слабость. Как-то летом 1944 года к нам на побывку с фронта приехал мой дядя, мамин брат, капитан-танкист Александр Нахмансон. Ему еще в 1941 году за мужество, проявленное в московском сражении, Михаил Калинин вручил в Кремле орден Красного Знамени. Эта фотография группы орденоносцев 1941 года до сих пор хранится в нашем семейном архиве, как и пожелтевшая вырезка из газеты мая 1940 года, на которой запечатлен другой мой дядя, Яков Нахмансон, тоже танкист – участник первомайского парада. Он сгорел в танке в 1941 году.
Приезд героя-танкиста переполнял мое мальчишеское сердце гордостью. Настоящий мужчина, солдат в доме! Мы же много лет росли без отцов. Наши матери были нам и папами, и мамами одновременно. Дядя Саша предложил мне настоящую мужскую работу – пилить дрова для нашей печки. Я немало в детстве и в юности перепилил и переколол дров. Мне нравилось здоровенным колуном развалить с первого удара могучий кряж на четыре - пять частей, а потом острым топором разрубить их на тонкие березовые поленья. Красивая, настоящая мужская работа. Позже, когда в Можайске отец, как фронтовик, получил десятитысячную ссуду и мы построили свой дом, я любил в зале сам топить печку березовыми дровами. У нас была печка-голландка. Сухие березовые дрова горят дружно и дают много жара. Я любил смотреть на веселую пляску огня. Он меня завораживал первозданной, таинственной стихией. Видимо, так наши предки пристально и долго смотрели на огонь и обожествляли его...
А пока я, семилетний пацан, во дворе большого дома в Оренбурге впервые в жизни пилил дрова с дядей-танкистом. Я не помню, сколько времени длилась эта трудовая акция. Мне она казалась вечностью. Иногда мы отдыхали, и я в изнеможении усаживался на бревно. Дядя шутил и спрашивал, не устал ли я. Разве я мог признаться герою-фронтовику, что устал? Отвечал: нет. «Тогда продолжим», – говорил дядя Саша, и я опять тянул эту проклятую пилу на себя и от себя. Когда мы закончили, гора распиленных чурбаков оказалась выше меня. Однако, учитывая мой тогдашний рост, я не думаю, что это была большая гора, скорее горка. Потом дядя купил большой и очень спелый арбуз, и я за столом получил первый кусок, как самый главный работник. Дядя похвалил меня за трудолюбие и сказал, что я расту настоящим мужчиной. Его похвалы были торжественной музыкой для моих ушей, гимном моему Я. Правда, назавтра я не мог поднять ни рук, ни ног. Все тело болело, но это уже было ничто по сравнению с первым триумфальным преодолением самого себя.
Конечно, я не мог тогда осознавать того, что получил урок развития воли. Без сомнения, правы Рудольф Штайнер и его последователи, вальдорфские педагоги, когда утверждают, что от 0 до 7 лет на первом этапе душевного и физического развития человека приоритетная задача родителей и учителей заключается в том, чтобы помочь ему в воспитании воли. Ребенок подсказывает взрослым программу их педагогической деятельности, когда произносит золотые слова «я сам».
В трудные первые послевоенные годы бесконечные тесты на выживаемость продолжались. Во всяком случае, среди моих сверстников, мальчишек и девчонок, я не встречал инфантильных, живущих в затянувшемся детстве ребят. Они многое умели делать руками. Их всех отличала практическая смекалка и ухватистость. В то же время это не был рационализм, коммерческий прагматизм западных школьников, который формируется в условиях рыночной экономики и сытого благополучного социума.
В одном из советских художественных фильмов о войне – он назывался «Последние залпы» – девушка спрашивает своего любимого, молодого комбата, отчего он такой серьезный и даже суровый. Офицер отвечает: «Я рано начал носить оружие и отвечать за людей». Психологически и социально его ответ точен. Мы не воевали, но мы рано научились отвечать за себя и не ныть.
|